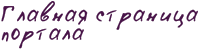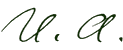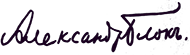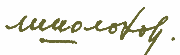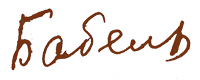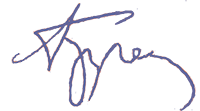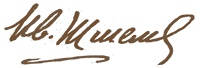Федор Сологуб — переводчик французских символистов

Автор: В.Е. Багно
Переводы, осуществленные в хронологических рамках одного литературного течения, не только представляют поучительный, с филологической точки зрения, интерес (не говоря уже об историческом), но, как правило, обладают определенными преимуществами в художественном отношении перед всеми последующими. Обращение русского литератора, в частности символиста, к творчеству поэта-современника, поэта-единомышленника, близкого ему по складу творческой личности, литературным взглядам и симпатиям, нередко наделяло его переводческие опыты неоспоримыми и уникальными достоинствами.
Что же касается исследовательского интереса, то эти переводы, несомненно, могли бы служить надежным материалом для выявления национального своеобразия той или иной ветви литературного направления[1], материалом, по крайней мере, не менее достоверным, чем теоретические высказывания его представителей. Небезынтересен при этом уже сам выбор переводимых произведений, а также та сложная система замен, которая, программно декларируемая или осуществляемая подсознательно, присутствует в любой переводческой работе. Среди крупных явлений русской литературной жизни рубежа XIX—XX вв. наименее, пожалуй, изучены весьма показательные во многих отношениях переводы Федора Сологуба из французских символистов[2].
Для Сологуба, как и для других русских «старших» символистов, ориентация на западноевропейскую культуру имела принципиальное значение. Этой ориентацией обусловлено то место, которое занимали переводы в их творчестве (Donchin 1958: 10). Далеко не случайно Брюсов считал возможным дебютировать в литературе переводами из Верлена[3], а Сологуб подготовленный им сборник «Поль Верлен. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом» (1908) назвал в Предисловии к нему седьмой книгой своих стихов.
Сологуб начал переводить рано, с конца 1870-х годов, и продолжал заниматься переводами, в основном с французского и немецкого, до конца жизни. Его перу принадлежат классические переводы многих стихов Верлена, философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», романа Мопассана «Сильна как смерть». В разные годы немало времени и сил он отдал попыткам воссоздать на русской почве стихов французских поэтов — Гюго, Леконта де Лиля, Рембо, Малларме, немецких поэтов-экспрессионистов — Голла, Цеха, украинских — Шевченко и Тычины, венгерского — Петефи, еврейского — Бялика, армянского — Наапета Кучака, поэмы провансальского поэта Ф. Мистраля «Мирейя», драмы Г. Клейста (совместно с А. Чеботаревской). Причем работа над переводами, по его собственному признанию, доставляла ему огромное наслаждение[4]. Амплитуда переводческой деятельности (в юности он переводил Еврипида и Эсхила, Шекспира и Кохановского, Гете и Гейне) — свидетельство широты поэтических интересов Сологуба. Различные его переводческие работы по-разному были встречены в печати, подчас — более чем сдержанно. В поздних переводах Сологуба «презрение к шевченковскому стиховому звучанию и к смыслу» обнаружил Чуковский (Чуковский 1968: 351; см. также с. 350–357). То, что Сологуб при отличающем его внимании к оригиналу неизменно переозвучивал его в соответствии с особенностями своего поэтического мира, ясно осознавалось современниками. «Нет, Сологуб — не переводчик, — писал И. Анненский в статье “О современном лиризме”. — Он слишком сам в своих, им же самим и созданных превращениях. А главное — его даже и нельзя отравить чужим, потому, что он мудро иммунировался» (Анненский 1979: 357).
Наиболее весомый вклад в русскую переводческую культуру Сологуб внес своими переводами из Верлена. Сологуб был одним из тех, кто привил русской читающей публике любовь к французскому поэту, а заодно формировал нового читателя, способного составить тот фон, на котором развивался и завоевывал позиции символизм русский.
Французский символизм к девяностым годам уже выполнил в своей стране ту миссию, к которой готовились русские поэты, группировавшиеся вокруг «Северного вестника» в Петербурге и вокруг Брюсова в Москве, решительно обновил все средства поэтической выразительности. Вполне естественно, что, поставив перед собой несколько позднее ту же задачу, русские писатели на первых порах немало вдохновляющих стимулов и, конкретнее, — литературных приемов почерпнули в творчестве Верлена. Об исключительном значении Бодлера как непосредственного предшественника французского символизма и Верлена для первого этапа русского символизма писал С. А. Венгеров[5]. При этом знакомство с обеими национальными версиями одного литературного направления не оставляет сомнений в том, что речь ни в коей мере не шла о «переводном» литературном течении (Измайлов 1911: 296). Достаточно сказать, что слишком неопределенно было то содержание, которое вкладывалось в понятие «символизм», чтобы можно было ставить вопрос о прямом «переводе». «Что такое символизм? — писал один из “младших” французских символистов Реми де Гурмон. — Если держаться прямого, грамматического значения слова, почти ничего. Если же раздвинуть вопрос шире, то слово это может наметить целый ряд идей: индивидуализм в литературе, свободу творчества, отречение от заученных формулировок, стремление ко всему новому, необычному, даже странному. Оно означает также идеализм, пренебрежение к фактам социального порядка, анти-натурализм, тенденцию передавать только те черты, которые отличают одного человека от другого, желание облекать плотью лишь то, что подсказывается конечными выводами, то, что существовало» (Гурмон 1913: VI). Еще решительнее настаивает на неопределимости четких границ течения П. Валери, в юности прошедший школу Малларме: «То, что нарекли символизмом, попросту сводится к общему для многих поэтических семейств (причем семейств враждующих) стремлению “забрать у Музыки свое добро”. Такова единственно возможная разгадка этого направления. Темнота и странности, в которых столько его упрекали, слишком тесная на первый взгляд связь с литературой английской, славянской или немецкой, запутанность синтаксиса, сбивчивость ритмов, причудливость словаря, навязчивые фигуры <...> все это легко объяснимо, коль скоро выявлен основной принцип» (Валери 1976: 366–367). Утверждение о «переводном» характере символизма в России тем более неверно, что для представителей младшей формации русского символизма французский символизм оказался в целом достаточно чужд. Как Вяч. Иванову, так и Андрею Белому он представлялся слишком рассудочным, рационалистическим, а его образы — слишком однозначными и точными (Асмус 1968: 584). Андрей Белый в незаконченной статье, над которой он работал в 1918 г., упрекал французских символистов в том, что они не сумели «углубить» символизм как миросозерцание и сузили его до школы, сосредоточившей все внимание на проблеме стиля и словесной инструментовки (Белый 1980: 174). В признаниях младших символистов встречаются и неточности, и недостаточно обоснованные обобщения. Согласно Вяч. Иванову, он и его единомышленники не имели ни исторического, ни идеологического основания соединить свое дело с приемами и методом мышления, присущими французским символистам. Он утверждал, что главный пункт расхождения между обеими школами — отношение к логической значимости слова. Если Малларме «хочет только, чтобы наша мысль, описав широкие круги, опустилась как раз в намеченную им одну точку», для русской школы символизм «есть, напротив, энергия, высвобождающая из граней данного, придающая душе движение развертывающейся спирали» (Иванов 1916, 157). В понимании как французского символизма, так и русского с Вяч. Ивановым здесь не согласились бы не только старшие символисты, такие как Сологуб или Брюсов, но и младшие, например близкий к символистам Волошин. Тем более что истолкование Малларме и оценка его творчества у Вяч. Иванова крайне субъективны.
В ту пору, когда Вяч. Иванов отрицал историческую и идеологическую связь русского символизма с французским и давал не слишком лестную характеристику творчества Малларме, в целом символистское направление в русской поэзии вне зависимости от споров о его истоках давно уже было господствующим, а имена Верлена и его единомышленников и соотечественников были окружены пиететом. Между тем в начале 90-х годов первые шаги представителей новой поэзии, опиравшихся на авторитет символистов Франции, встречали яростное сопротивление.
Как и любое новое литературное направление, прививается ли оно со стороны или самозарождается (на самом же деле возникновение любого литературного течения представляет собой сочетание этих двух начал и тенденций), русский символизм встречал сильное противодействие, мотивируемое как эстетически, так и этически, и даже патриотически, поскольку первые русские символисты настойчиво декларировали если не прямую зависимость от французского образца, то во всяком случае свои симпатии к опередившим их в создании новой поэзии символистам Франции. Н. Н. Николаев призывал прибегнуть к действенным мерам для искоренения этой «прилипчивой болезни». Брюсовский перевод знаменитого стихотворения Верлена «Небо над городом плачет» он охарактеризовал следующим образом, отметив как раз наиболее новаторские его особенности: «Кроме этих очень некрасивых повторений вместо рифм мы видим здесь и другие повторения, которые делают это выражение бледной, беспричинной тоски еще бледнее, бесцветнее. Вместе с тем это нисколько не делает стихотворение более ценным, так как читатель выносит впечатление тоски не от такого же чувства, которое волнует автора и которое тот желал бы передать читателю, а просто от его скучной и дурной манеры писать, от той трудности, с какой дается ему процесс писания и управления своим языком»[6]. К. П. Медведский удивлялся серьезности желания новых «сектантов» пересадить на отечественную почву совершенно чуждые русской литературе теории[7]. Он утверждал, что спасение русской литературы — в любви к родине, что настоящие русские писатели — «сильны родиной» и только эта сила спасет русскую литературу от увлечения зарубежными графоманами и шарлатанами, а русских литераторов от превращения в космополитов, людей без роду-племени и отечества.
Между тем число восторженных почитателей таланта Верлена и Малларме в России множилось, читатели могли познакомиться с образцами их поэтического творчества в русских переводах, из критических работ, оригинальных и переводных, они получали достаточно конкретное и ясное представление о своеобразии их дарований. Так, из статьи З. Венгеровой, принадлежащей к числу самых талантливых популяризаторов французского символизма в России, русские читатели узнавали, что все эти непонятные при первом чтении сонеты Малларме объясняются «философским миросозерцанием поэта, его верой в вечную гармонию вселенной, в силу которой одни и те же отвлеченные понятия должны вызывать одни и те же символы. Он верит в правильные, существующие с начала времен соотношения между миром мысли и внешней природой, так что поэту стоит только напомнить о них, чтобы они появились в человеческом сознании, не нуждаясь ни в каких объяснениях»[8]. Особый интерес вызывали рассуждения самих французов, например Реми де Гурмона или А. де Ренье, о перевороте в отечественной поэзии, совершенном Верленом.
Русские символисты (Брюсов, Сологуб, Анненский, Минский, Эллис, Волошин) не только переводили произведения своих французских предшественников, не только отдавали им дань уважения, выбирая в качестве эпиграфов строки из их стихотворений или посвящая им свои стихи (у Брюсова, в частности, есть стихи, посвященные Малларме, Бодлеру, Верхарну и Метерлинку или написанные в их манере), но активно и истинно творчески осваивали их опыт. Особенно плодотворным было творческое восприятие Верлена. Русские поэты использовали характерные для Верлена стилистические приемы — следующие одна за другой назывные конструкции, разного рода повторы и анафоры. Они опирались на опыт французского поэта в своих настойчивых попытках резко обновить и обогатить метрический репертуар русской поэзии. Не без влияния лирики Верлена, в отличие от поэзии предшествующего периода, стихов Надсона или Апухтина, начинают активно осваиваться короткие, гибкие ритмы и размеры. Подобно Верлену русские символисты чаще стали вводить разносложные и разнословные рифмы (Гаспаров 1984: 243–248), реже использовать точную рифму и чередование мужской и женской рифмы, начали широко применять аллитерацию и enjambement. В их творчестве находит отражение типичная для Верлена цветовая гамма — серый и черный цвета, которым поэт придавал символическое значение. Воздействие Верлена проявилось и в настроениях (склонность к блеклым тонам, интимность звучания и т. д.). Иногда о позднем Верлене напоминал контраст и одновременно сплав святости и греха, создающие специфически декадентскую атмосферу. Весьма заметным и ярким элементом стихотворного языка русских символистов становятся так называемые обратные сравнения, редкие в русской поэзии XIX в. (Кожевникова 1986: 17). Между тем обратные сравнения имеют ключевое значение в поэзии Малларме, на что указывали и русские популяризаторы его творчества, приводя при этом конкретные примеры. Так, беллетрист, критик и переводчик П. Н. Краснов писал о нем: «Он допускал совершенно своеобразную и произвольную расстановку слов, заставляя читателя мысленно возвращаться к самому началу стихотворения, когда он дочел его до конца. Эта расстановка слов, пропуск некоторых существенных частиц, странные эпитеты, вроде “синее одиночество” (solitude bleue), совершенно неожиданные сравнения, причем даже не упоминается, что читатель имеет дело со сравнением, а прямо вместо одного предмета ставятся другие, с которыми он сравнивается (так, вместо того чтобы, например, сказать «солнце», Малларме говорит: «прекрасная головня славы», «золотая буря»), — делает его стихи в конце концов похожими на шарады, и он достигает в сущности обратного результата: вместо сосредоточения внимания на предмете, оно расходуется на разгадывание загадки»[9]. Несомненно, что опыт не только Верлена, но в какой-то мере и Малларме оказался небесполезным для русских символистов.
Брюсов был искренне убежден, что «подлинное и широкое знакомство с книгами французских поэтов повысит требования, какие у нас предъявляются к созданиям поэзии, расширит кругозор наших писателей, во многом усовершенствует технику нашего стиха» (Брюсов 1913а: XI). Исходя из этого убеждения и несмотря на другое свое убеждение — в непереводимости стихотворного произведения (Брюсов 1987: 99)[10], — Брюсов наиболее активно популяризировал творчество не только Верлена, Малларме, Рембо или А. де Ренье, но и таких поэтов младшего поколения, как Р. Гиль, Ф. Вьеле-Гриффен, С. Мерриль, имя которых и после Брюсова было почти что пустым звуком для русских читателей (Брюсов 1909). В набросках 90-х годов о символизме Брюсов ратовал за издание «корифеев французского символизма в русском переводе» (Брюсов 1937: 268). Наряду с Брюсовым и немногим ему уступая, французских символистов с первых шагов своей литературной деятельности переводил и Сологуб.
2
Знакомство Сологуба с лирикой Верлена, открывшей для него новую французскую поэзию, состоялось в конце 1880-х годов, примерно тогда же, когда творчеством Верлена и Малларме заинтересовался Брюсов[11]. Переводить Верлена Сологуб начал в 1889 г. в Вытегре, учительствуя в «страшном мире» русской провинции. Увлечению Верленом способствовали занятия французским языком, которым, впрочем, он занимался не для чтения стихов, а для работы над учебником по геометрии. 18 марта 1890 г. Сологуб писал В. А. Латышеву: «Так как я не перестаю заниматься фр. яз., то чтение учебника идет легко, к словарю приходится прибегать редко, не чаще раза на протяжении нескольких страниц»[12]. Впрочем, к началу 90-х годов поэт вряд ли сумел освоить язык достаточно глубоко. В одном из самых знаменитых «Романсов без слов» «II pleure dans mon coeur» — кстати говоря, одном из самых прозрачных в лексическом плане, с переводческой точки зрения действительно почти «без слов» — он вынужден был все же выписать четыре слова (йcoeurer, langueur, Quoi, Haine) и уточнить во французско-русском словаре возможные варианты их перевода (1, 38, 335 об.).
Если учесть условия, в которых зарождался интерес Сологуба к Верлену, то понятнее оказывается его концепция «мистической иронии» французского поэта (речь о ней пойдет ниже), творчество которого помогло ему выстоять, а возможно, и напоминало его собственное существование несовместимым, казалось бы, сочетанием серой обыденности и развращенности провинциальной жизни с прорывами мечтательной натуры к высокой светлой духовности.
Восприятие Сологубом современной ему литературы Франции облегчалось известной близостью некоторых характерных черт французской культуры особенностям его творческого облика. Эта несомненная близость не осталась не замеченной современниками. «Однородность литературных явлений иногда рождается не из обезьянства и моды, но от однородного биения сердец <...>) Некоторые наши современные писатели не произвели бы диссонанса, родившись во Франции. Как вехи они сближают страны. В них сошлись лучи тех солнц, которые ярче всего горят для современного мира. Один из таких писателей у нас — Сологуб» (Измайлов 1911: 297).Более тонкое и прозорливое наблюдение находим у Вяч. Иванова: «Книга рассказов» Ф. Сологуба, русская по обаятельной прелести и живой силе языка, зачерпнутого из глубин стихии народной, русская по вещему проникновению в душу родной природы, — кажется французскою книгой по ее, новой у нас, утонченности, по мастерству ее изысканной, в своей художественной простоте, формы» (Иванов 1904: 47).
Уступая Брюсову по количеству переведенного из французских символистов и по числу имен новых поэтов Франции, с которыми он знакомил русских читателей, Сологуб охватил тем не менее в своих переводах почти все возможные жанры. Помимо широко известных переводов из Верлена (в архиве сохранилось несколько неизданных версий — 1, 38) он переводил стихи Рембо, большая часть которых до сих пор не опубликована (1, 44), стихотворения в прозе Рембо (часть «Озарений» также осталась неизданной — 1, 44), стихотворения в прозе Малларме (1, 42). В его архиве хранятся также незавершенные переводы пьесы Р. де Гурмона «Лилит» (1, 209) и романа А. де Ренье «Дважды любимая» (1, 561). Если переводы из Малларме и Реми де Гурмона представлены машинописными копиями, отчасти правленными от руки, а в случае с романом А. де Ренье — только автографом, то отдельные переводы из Верлена и Рембо сохранились как в беловых и черновых автографах, часть которых датирована, так и в машинописных копиях.
Причины, обусловившие обращение к тем или иным произведениям, были, по-видимому, различны. Стихи Верлена, особенно близкого Сологубу, сопутствовали ему на протяжении всей жизни. Можно предположить, что Сологуба заинтересовали пьеса Р. де Гурмона, писателя, настаивавшего на «законности чувственного наслаждения» и на чувственности всякого «духовного» наслаждения (Луначарский 1925: 283), и роман А. де Ренье, умевшего как никто другой изображать в строго выверенных формах изысканную утонченность сердечных драм и переживаний героев. Вероятно, отношение Сологуба к «Озарениям» Рембо и «Стихотворениям в прозе» Малларме было неоднозначным. Он не мог не оценить выдающихся поэтических достоинств произведений великих французских поэтов, и вместе с тем его собственные эстетические искания не пересекались с теми, которыми были одержимы в своих сложных и не поддающихся однозначному толкованию текстах Рембо и Малларме. Думается, права М. И. Дикман, предположившая (в связи с «Озарениями»), что Сологуба влекла к этому стилистически и ритмически чуждому ему поэтическому явлению потребность «преодоления трудностей» (Дикман 1975: 70).
В то же время, по-видимому, не последнюю роль играло и стремление обогатить отечественную литературу русским эквивалентом столь яркого и плодотворного в условиях Франции жанра, как «стихотворение в прозе», сохранив при этом по возможности все его специфические французские особенности.
Если учесть, что к лирике Верлена Сологуб обратился на рубеже 1880—1890-х годов и активно переводил ее в течение ряда лет, его переводы из Малларме датируются 1898 г.[13], в 1905—1908 гг. он работал над переводами «Последних стихотворений» Рембо, в 1908 г. готовил к печати первое издание своих переводов из Верлена, работа над пьесой Р. де Гурмона датируется 1910 г., в 1915 г. были опубликованы сологубовские версии «Озарений» Рембо, в 1918 г. он пытался издать сборник своих и брюсовских переложений лирики Верлена и, наконец, в 1923 г. опубликовал второе издание Верлена в своих переводах, то нельзя не заметить стойкой приверженности русского поэта делу воссоздания на национальной почве наследия символистов Франции.
Первые сологубовские переводы из Верлена появились в 1893— 1894 гг. в журнале «Северный вестник»[14]. В 1896—1898 гг. новые переводы были опубликованы в газете «Наша жизнь»[15] и журнале «Петербургская жизнь»[16], в 1904—1905 гг. — в «Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки»[17], в 1907 г. — в журнале «Образование»[18]. Наконец, в 1908 г. переводы Сологуба вышли в свет отдельной книгой, включавшей в себя тридцать семь стихотворений из сборников «Poиmes saturniens», «La bonne chanson», «Fкtes galantes», «Romances sans paroles», «Sagesse», «Jadis et Naguйre» и «Chansons pour elle». Шестнадцать переводов печатались впервые, часть стихотворений публиковалась в нескольких версиях.
В 1918 г. у Сологуба возникла идея издать Верлена в своих и брюсовских переводах, исходя из факта их реального сосуществования в читательском сознании как самых убедительных попыток в русской литературе дать собственную поэтическую версию творчества французского поэта в целом[19]. «Я слышал, — писал он Брюсову 17 сентября 1918 г., — что Вы в Москве становитесь у большого дела по издательству переводной литературы. Надеюсь, Вы вспомните, что я — усердный переводчик. Между прочим мы с Вами сошлись на Верлене. Соединение наших переводов могло бы быть полезно»[20]. В феврале 1919 г. он послал список этих переводов заведующему издательством «Всемирная литература» А. Н. Тихонову, однако замысел не был осуществлен. Тем не менее идеи переиздать свои старые переводы, а также представить Верлена в версиях, отвечающих его новому взгляду на переводческую деятельность, Сологуб не оставил. Второе издание переводов из Верлена, существенно отличающееся как по объему, так и по принципам, датируется 1923 г. В нем были представлены уже пятьдесят три стихотворения, из которых десять печаталось в исправленном виде, пятнадцать было переведено заново, а шестнадцать — впервые. В разделе «Варианты» были представлены двадцать два старых перевода шестнадцати стихотворений, в то время как в первом издании различные версии одного стихотворения следовали одна за другой в основном тексте, в полном смысле на равных сосуществуя и дополняя друг друга.
Из других своих переводческих работ, обусловленных неослабевающим интересом к французскому символизму, Сологуб счел возможным опубликовать только значительную часть «Озарений» Рембо. Почти все они были включены в 1-й сборник издания футуристов «Стрелец» 1915 г. (Рембо 1915: 173–190). Здесь было опубликовано пятнадцать стихотворений в прозе французского поэта, а годом позже — во 2-м сборнике «Стрельца» — еще одно — «Поклонение» (Рембо 1916: 113).
Столь отчетливое предпочтение, отдаваемое Верлену как самим Сологубом, так, по-видимому, и издательствами перед всеми другими символистами Франции, вполне объяснимо. Именно Верлен, который в известном смысле был лишь предшественником символизма, поэтом, в зрелой и поздней лирике которого нашли наиболее яркое воплощение ранние символистские веяния, для России стал средоточием нового литературного течения, его квинтэссенцией, полномочным его представителем, затмившим всех своих современников и последователей. Из всех французских поэтов символистского круга в России живым литературным явлением стал только Верлен. Подобно младшим символистам Франции русские символисты сознавали, что на поэтическую индивидуальность Рембо, намного опередившего свое время, трудно опираться в собственных литературных поисках, и поэтому отнеслись к его творчеству несколько сдержанно, хотя внешне вполне уважительно[21]. Алхимические реторты, магические кристаллы и алгебраические формулы, в которые, согласно Волошину, Малларме замыкал свои идеи (Волошин 1988: 55), настолько в целом отличались от тех задач, которые ставили перед собой русские символисты, что непререкаемость авторитета французского поэта заставляла заподозрить определенную внутреннюю отчужденность. Эта отчужденность как следствие отсутствия глубинных импульсов к активному творческому усвоению его наследия отнюдь не мешала появлению в русской печати сочувственных и достаточно глубоких статей о произведениях Малларме, ярких переводов его стихов, принадлежавших перу Анненского, Волошина и Брюсова, или признанию тем же Брюсовым своей зависимости от эстетической доктрины французского поэта (Брюсов 1976: 202).
От этого заинтересованного взгляда эрудитов и тонких ценителей разительно отличалось отношение к Верлену, который стал, как ранее Гете, Байрон или Гейне, неотъемлемой частью русского литературного процесса.
Подобно своим французским собратьям по перу русские символисты испытывали вполне понятную потребность «подтянуть» Верлена под определение «символизм» и тем самым иметь возможность ссылаться на его авторитет, с художественной точки зрения неоспоримый и не имевший, естественно, никакого отношения к терминологическим спорам. «Слову символизм, — писал Брюсов, — часто придают слишком широкое значение, означая им в целом все движение в искусстве, возникшее в конце XIX века. Это неверное словоупотребление, потому что никаких определенных “символов” не найдем мы в произведениях целого ряда поэтов, несомненно принадлежащих к этому движению и бывших в нем видными деятелями, каков, например, Верлен» (Брюсов 1976: 183). Чаще же, впрочем, к авторитету Верлена прибегали без всяких оговорок. В одной из своих немногочисленных теоретических статей Сологуб писал: «Это многообразие впечатлений и опытов, эта живая жизнь образов искусства в наших душах способствует основной задаче символического искусства — прозрению мира сущностей за миром явлений. Прозреваем мир сущностей не разумно и не доказательно, а лишь интуитивно, не словесно, а музыкально. Не напрасно заветом искусства поставил Поль Верлен требование: “Музыка, музыка прежде всего”» (Сологуб 1915: 41). Столь легкая усваиваемость на русской почве поэтического новаторства Верлена, как и всегда в подобных случаях, объясняется очень многими причинами, одна из которых — близость его творчества стихии русской поэзии, в том числе той, которую, как это ни парадоксально, его русским приверженцам предстояло преодолеть. Эта близость, во многом кажущаяся, стихотворений Верлена лирике Фета, Фофанова и их эпигонов, такие общие для них особенности, как музыкальность, камерность, меланхолическая тональность, таили в себе немало опасностей, как нам еще придется убедиться при анализе переводов из Верлена, выполненных поэтами, далекими от символических умонастроений. И вместе с тем эта близость сокращала дистанцию, удовлетворяла эстетическую потребность, которую несколько позже выразит Мандельштам: «И сладок нам лишь узнаванья миг» (Мандельштам 1974: 110). Сколь краток ни был, например, «миг узнавания» Фета в сологубовском переводе стихотворения Верлена:
Это — нега восхищенья,
Это — страстные томленья,
Это — трепеты лесов,
Свежим веяньем объятых,
Это — в ветках сероватых
Хор чуть слышных голосов[22]... —
он вполне отвечал столь естественной потребности познавать неведомое через знакомое.
Для предпочтения Верлена всем другим символистам Франции у Сологуба были и особые причины, обусловленные своеобразием его творческой индивидуальности. В Предисловии к изданию 1908 г. русский поэт признавался: «Я переводил Верлена, ничем внешним к тому не побуждаемый. Переводил потому, что любил его» (Верлен 1908: 7). На экземпляре, тогда же подаренном Блоку, хранящемся в Пушкинском Доме, он написал: «Александру Александровичу Блоку. Милый и прекрасный поэт, я дарю вам эту книгу с такою же любовию, с какою переводил собранные здесь стихи»[23]. Вне всякого сомнения, не только из всех символистов Франции самым близким Сологубу был Верлен, но именно Сологубу из всех русских символистов Верлен был наиболее близок. Сологуба могли и не называть русским Верленом, однако «сродство душ» обоих поэтов должно было привлечь внимание современников. Так, рецензент «Русского богатства» писал в связи с выходом первого издания сологубовских переводов из Верлена: «Есть какое-то сходство между Верленом и Сологубом; не случайно наш поэт занялся переводами из французского лирика. Та же трагическая гримаса исказила оба эти лица, то же одиночество окружает их характерные фигуры в литературе, то же сплетение исступленной чувственности с мистикой потустороннего искания отмечает их творчество»[24]. Музе русского поэта были созвучны музыкальность стихов Верлена, которые воспринимались не только разумом и зрением, но и на слух, а подчас даже скорее на слух, чем разумом и зрением. Сологуба привлекало в поэзии Верлена сочетание кажущейся простоты и стиховой изощренности и отточенности («Верлен, отваживающийся сочетать в своих стихах самые расхожие формы и самые обиходные речения с весьма изощренной поэтикой Парнаса <...>»(Валери 1976: 485)), черта, отмечавшаяся и в его собственной лирике («Однако простота Ф. Сологуба — именно простота пушкинская, ничего общего не имеющая с небрежностью <...> Такая простота в сущности является высшей изысканностью, потому что это — изысканность скрытая, доступная лишь для зоркого, острого взгляда») (Брюсов 1975: 284). Для Сологуба был не только приемлем, но и достаточно притягателен откровенный эротизм поздних верленовских сборников. Пронизывающие все творчество французского поэта мотивы грусти, тоски и томления, ни с чем не сравнимые во всей литературе Франции[25], не могли не найти отклика у Сологуба, хотя, воспользовавшись высказыванием С. Великовского, можно выявить и известное отличие в этом плане между обоими поэтами. Если природная среда поэзии Верлена — задумчивая грусть, сумеречность и томления, то стихия Сологуба нередко — вязкий ужас, мрак и терзания (Великовский 1987: 84). В лирике Верлена Сологуба привлекало, конечно же, далеко не все. Творческим устремлениям Сологуба был в основном чужд «парнасский» период французского поэта, хотя он и перевел отдельные стихотворения из ранних сборников. Его оставило равнодушным и религиозное обращение Верлена («Здесь нет стихотворений католических — они кажутся мне мало интересными, мало характерными для Верлена» (Верлен 1908: 7)), которому читатели обязаны многими шедеврами сборника «Мудрость», хотя, опять-таки, трактуя их несколько отстраненно, Сологуб прекрасно перевел некоторые знаменитые стихотворения этого сборника.
В Предисловии к сборнику 1908 г. Сологуб дал читателям ключ к своей интерпретации как творчества французского поэта, так и принципов, которыми он руководствовался, выбирая для перевода те или иные стихи. «В гармонии, мелодии стиха, — справедливо отмечала М. И. Дикман, — Сологуб находит душевное освобождение, “очищение”, “катарсис”. И это тот эстетический катарсис, который присущ его безысходно жестокой лирике. Гармония стиха противостоит злой, дисгармоничной действительности и художественно преодолевает ее» (Дикман 1975: 56). По-видимому, сходным образом сам Сологуб оценивал творчество Верлена, считая его наиболее чистым проявлением того, что можно назвать «мистическою ирониею». В понимании русского поэта близкая его сердцу мистическая ирония Верлена — это эстетическая, равно как и жизненная позиция, суть которой в принятии мира, однако не в приземленном и обыденном виде, а в преображенном, при котором «в каждом земном и грубом упоении таинственно явлены красота и восторг». «Самый редкий уклон, — пишет он, — и это — уклон Поля Верлена, — когда принята Альдонса, как подлинная Альдонса и подлинная Дульцинея: каждое ее переживание ощущается в его роковых противоречиях, вся невозможность утверждается, как необходимость, за пестрою завесою случайностей обретен вечный мир свободы» (Верлен 1908: 7, 9). Для читателя искушенного и внимательно следившего за творческими поисками Сологуба вводимые в Предисловие к сборнику переводов из Верлена мотивы мифа о Дульсинее и Альдонсе помогали выявить тот смысл, который поэт вкладывал в понятие мистической иронии. Миф о Дульсинее, порождаемой творческим сознанием Дон Кихота из грубой, «козлом пахнущей» крестьянки Альдонсы, стал складываться у Сологуба как альтернатива преобразованию мира. Донкихотовская позиция по отношению к реальности осмысляется как единственно достойная художника. Наиболее подробно Сологуб изложил свою концепцию в статье «Мечта Дон-Кихота (Айседора Дункан)», создавая затем бесчисленные ее версии в других статьях, романах и пьесах. «Лирический подвиг Дон-Кихота, — утверждает он, — в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонса. Для вас — смазливая, грубая девка, для меня — прекраснейшая из дам» (Сологуб 1913: 160). Кстати сказать, косвенным образом постулируется необходимость резкого поворота художника к грубой прозе, к вторжению в действительность и отказ от устремленности к заоблачным целям: «Воистину прекраснейшая, — потому, что в ней красота не та, которая уже сотворена и уже закончена и уже клонится к упадку, — в ней красота творимая и вечно поэтому живая. Как истинный мудрец, Дон-Кихот для творения красоты взял материал, наименее обработанный и потому наиболее свободы оставляющий для творца» (Сологуб 1913: 160). Таким образом, Верлен как представитель мистической иронии, для которого Альдонса принята как подлинная Альдонса и подлинная Дульсинея, противопоставлен как «лирическим» поэтам, для которых Альдонса не существует, а существует лишь Дульсинея, т. е. новый поэтический мир, творимый поэтом, так и грубо «ироническим», которые принимают Альдонсу со всеми ее противоречиями и отвергают Дульсинею как «нелепую и смешную мечту». Очевидно, что подобным образом понятые принципы мистической иронии отвечали умонастроению самого Сологуба, действительно сумевшего, хотя и сквозь образный флер несколько навязчивого мифа, прозорливее многих своих как русских, так и французских современников определить своеобразие поэтического мира Верлена. В Предисловии к переизданию своих переводов из Верлена в 1923 г. Сологуб упоминал, что мысли, изложенные им в Предисловии к изданию 1908 г., впоследствии нашли отражение в его программной работе «Искусство наших дней» (Сологуб 1915: 52–53). Это достаточно красноречивое свидетельство того значения, какое он придавал своей концепции мистической иронии, причем в самом широком плане, а не только применительно к творчеству французского поэта.
Верлен, предложенный Сологубом суду читающей публики, подготовленной к появлению сборника многочисленными журнальными публикациями, стал подлинным событием литературной жизни. Брюсов, Анненский и Волошин, тонкие знатоки, ценители, а главное, авторитетные переводчики французской поэзии, единодушно приветствовали появление переводов Сологуба. Самым восторженным, глубоким и ярким был отклик Волошина, напечатанный в газете «Русь» 22 декабря 1907 г. По его мнению, «переводы Сологуба из Верлена — это осуществленное чудо», поскольку русскому поэту «удалось осуществить то, что казалось невозможным и немыслимым: передать в русском стихе голос Верлена», поэта, который обладает голосом наиболее проникновенным и которого любят за тот неизъяснимый оттенок голоса, заставляющий трепетать сердца читателей. Согласно Волошину, «с появлением этой небольшой книжки <...> Верлен становится русским поэтом» (Волошин 1988: 441, 144). Этот вывод с неизбежностью ставил под сомнение все другие, параллельные сологубовской, попытки ввести Верлена в круг «русских поэтов», в том числе брюсовскую. Готовя переиздание своих переводов из французского поэта, Брюсов не мог не учитывать как факта существования переводов Сологуба, так и отношения к ним в литературных кругах. Поэтому собственную оценку сологубовских версий, в высшей степени положительную, хотя и трактующую удачный опыт Сологуба, как один из возможных подступов, он ввел в текст своего Предисловия. Переводы Сологуба Брюсов счел «замечательнейшей попыткой» и отметил, что Сологубу «удалось некоторые стихи Верлена в буквальном смысле пересоздать на другом языке, так что они кажутся оригинальными произведениями русского поэта, оставаясь очень близкими к французскому подлиннику» (Верлен 1911: 7). С точки зрения Анненского, изложенной им в статье «О современном лиризме» (1909), Сологуб — внимательный и искусный переводчик Верлена (Анненский 1979: 355). Переводческие принципы Брюсова и Анненского были во многом противоположными, а сологубовские переводы, выхватывающие субъективно понятые, но при этом характерные элементы стихов Верлена и на этих элементах со знанием дела построенные, «угодили» обоим. Поэтому одновременное признание ими опыта Сологуба как удачного особенно знаменательно.
По типографской оплошности из обстоятельной рецензии Ю. Верховского[26] «выпала» самая интересная и глубокая мысль: «<...> если иногда внешность пьесы, казалось бы, может быть передана точнее, — все-таки не гораздо ли важнее звучащая в этих переводах музыка Верлена? Поэт, в том своем аспекте, который он явил переводчику, предстает перед нами во всей непринужденной ясности и тонкой простоте оригинала. В светлом языке перевода и в независимости всего стихотворного склада чувствуется иногда что-то родственное пушкинской свободе» (курсивом отмечен пропущенный фрагмент рецензии)[27].
Приветствует появление переводов Сологуба и рецензент газеты «Товарищ»: «Изящная в самой неуклюжести своей, грустная, разнообразная, “как тот заветный сад, где сходятся изысканные маски”, поэзия Верлена глубоко воспринята переводчиком и передана им русскому языку почти без потери особенностей и достоинств подлинника»[28]. С общим доброжелательным тоном диссонирует оценка рецензента «Русского богатства» переводов Сологуба как буквалистских, поскольку поэт «ищет точности буквы, а теряет точность духа». Вместо «порывистой души бедного Лелиана», вместо его воздушности и мягкости в переводах «все сухо, категорично, без вдохновения». В итоге, сурово резюмирует рецензент, если даже конгениального ему Верлена Сологуб не сумел донести до русского читателя, он вообще не может быть переводчиком; он слишком поглощен своим «я», чтобы приспосабливаться к чужому[29].
Переводы Сологуба непременно тем или иным образом учитывались рецензентами других русских попыток привить верленовскую лирику новой русской поэзии. Так, рецензент «Северного вестника», еще в 1896 г. (т. е. на основании нескольких журнальных публикаций, напечатанных, впрочем, в том же журнале) утверждал, что Сологуб перевел Верлена «очень художественно»[30].
По-разному, но чрезвычайно заинтересованно рецензенты отреагировали на новаторскую инициативу Сологуба — его решение напечатать в основном тексте различные версии одного и того же стихотворения. Попытка Сологуба в целом оспаривалась как подрывающая доверие читателя к переводческой работе. Наиболее аргументированно «фокусы» Сологуба отверг рецензент «Русского богатства». «Никак не можем признать эту своеобразную выдумку удачной. Перевод ведь не проба сил переводчика, а самостоятельное художественное создание: иначе он не нужен. Перевод должен не только давать известное представление о подлиннике; он должен замещать подлинник в сознании читателя <...> Но и там, где нет противоречий, эти сочетания стихотворений-синонимов совершенно неуместны; вместо того, чтобы сгущать впечатление, они его разжижают»[31]. Давая три перевода, он явно не доволен ни одним из них, иначе остановился бы на одном. Это расхолаживает читателя, — утверждает рецензент газеты «Товарищ». «Это новый прием. И едва ли достойный сочувствия», — вторит им рецензент «Биржевых ведомостей»[32]. И лишь Ю. Верховский не только поддержал инициативу Сологуба, но и дал ей глубокое истолкование: «Особенно поучительны переводы, дающие в двух или трех вариантах одну и ту же пьесу. Иногда несколько вариантов и художественно равноценны и одинаково нужны: черта случайно ослабленная в одном, оттеняется другим». Верховский несомненно прав, с той лишь оговоркой, что не случайно, а неизбежно не все особенности оригинала оказываются одновременно отраженными в любом, даже самом гениальном стихотворном переводе. С предельной ясностью тезис о неизбежности утрат при переводе и о методе перевода, учитывающем самый факт этой неизбежности, выдвинул Брюсов: «Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно — немыслимо. Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). <...> Выбор того элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод перевода» (Брюсов 1975: 106).
Нововведение Сологуба не прижилось, и в этом смысле рецензенты, исходившие из реального читательского восприятия, для которого каждый перевод столь же уникален, как и подлинник, были правы. Своеобразный монтаж переводческих удач, к которому подчас прибегают современные составители, редакторы и издатели, ни в коей мере не отражает процесса творческого восприятия художественного произведения читателем, как правило, не знающим подлинника. Однако вернемся к опыту Сологуба и попытаемся определить те мотивы, которые заставили поэта пойти на столь дерзкий эксперимент. Начнем с того, что в корне неверно предположение о «колебаниях» Сологуба. В его архиве сохранилось немалое число версий как тех стихотворений Верлена, которые были представлены в сборнике в нескольких вариантах, так и тех, которые поэт счел возможным опубликовать в одном переводе. Однако далеко не все редакции удовлетворили Сологуба, и некоторые из них так и остались неизданными.
Доказывая неприемлемость вариативности в переводах, рецензенты опирались на оригинальное творчество, которое как будто вариативности не терпит. Известно, например, что Сологуб не любил переделывать свои оригинальные стихотворения. «Всякий автор, когда пишет, напрягает себя до последней степени, — говорил он, — дает максимум художественности и ясности <...> Как же он может сказать еще что-то лучшее и большее, когда напряжение его прошло, когда он и во времени отошел от своего создания? <...> этим, в частности, объясняется моя личная черта, что я ничего существенного не могу ни прибавить, ни изменить в законченной вещи, потому что этому предшествует длинный период обработки, поправок, перечитываний, переписываний»[33]. Однако современник Сологуба, П. Валери, придерживался совсем иной точки зрения: «Стихотворение с вариантами — настоящий скандал для сознания обыденного и ходячего. Для меня же — заслуга. Сила ума определяется количеством вариантов» (Валери 1976: 586). В России ту же «силу ума» показал и Л. Андреев, опубликовавший два варианта финальной, пятой, картины «Жизни человека» (Андреев: 121–147). Стихи того или иного поэта, проникнутые сходными мыслями, чувствами, единым настроением, можно с известной натяжкой трактовать как варианты одного стихотворения. Оставив, однако, в стороне проблему как таковую, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что и по признаниям самого Сологуба, и по наблюдениям его современников, он постоянно повторял самого себя, бесконечно варьируя одни и те же темы. 25 апреля 1906 г. Блок, например, писал Брюсову: «<...> мне нравятся некоторые стихи Сологуба, хотя и не новые для него. Но ведь он принадлежит к нестареющим в повторениях самого себя» (Блок 1963: 152). Среди материалов Сологуба есть запись: «Метод — бесконечное варьирование тем и мотивов» (Цит. по: Дикман 1975: 27).
Поэтому нет ничего удивительного в том, что тот же метод вариативности поэт, не склонный переделывать свои оригинальные стихотворения, применил тем не менее при переводах. Сологубовские версии стихов Верлена нередко в прямом смысле дополняют друг друга, хотя и не всегда удачно. Эту особенность подметил рецензент «Русского богатства», истолковав ее при этом совершенно ложно. Его возмутило сосуществование таких строк, как «Шуму проливня внемлю» и «Дождика тихие звуки», представляющих собой разные варианты одной и той же строки Верлена (О bruit doux de la pluie), ибо читатель, увидев их рядом, «не знает, с чем ему связать тихую грусть поэта: с грохотом потоков проливного дождя или с тихою тоскливою капелью осеннего дождика»[34].Между тем очевидно, что дело не в «проливном дожде», а в том, что, не сумев передать одновременно монотонно-капельное звучание этой ключевой верленовской строки и ее смысл, Сологуб попытался в одном переводе передать музыку (почти адекватно с фонетической точки зрения), а в другом — смысл.
Особенно интересны и поучительны метрические эксперименты Сологуба. Очень часто в границах интуитивно ощущаемого семантического ореола того или иного размера он пытался определить, насколько органично будет «ощущать» себя то или иное лирическое настроение (поскольку точкой отсчета служит все же настроение) в различном метрическом воплощении. Для одного из вариантов стихотворения «L’ombre des arbres dans la riviиre embrumйe» Сологуб выбрал чередующиеся строки шестистопного и трехстопного ямба, для другого остановился на чередовании семистопного хорея с четырехстопным, третий весь решил в размере четырехстопного ямба, а самое позднее построил на чередовании шестистопного ямба и четырехстопного хорея. Стихотворение «Le ciel est, par-dessus le toшt» переозвучено следующим образом: в одном из вариантов четырехстопный ямб чередуется с двухстопным, во втором Сологуб остановился на трехстопном хорее, а в третьем нашел, пожалуй, самое убедительное решение — чередование четырехстопного хорея с трехстопным. Сравним разные варианты перевода первой строфы:
Над кровлей небо лишь одно, —
Лазурь яснеет. Над кровлей дерево одно
Вершиной веет.
(C. 75)
Небо там над кровлей
Ясное синеет.
Дерево над кровлей
Гордой сенью веет.
(C. 104)
Синева небес над кровлей
Ясная такая!
Тополь высится над кровлей,
Ветви наклоняя.
(C. 104)
Чередование разностопных ямба и хорея представляет одно из переводческих открытий Сологуба, переключавшего в каждой строке ритмическое ожидание читателя из одного размера в другой, не давая ему, таким образом, погрузиться в состояние монотонного покоя, при котором в известной мере утрачивается свежесть восприятия.
Чрезвычайно широкую метрическую амплитуду находим в трех различных вариантах перевода стихотворения Верлена «Il pleure dans mon coeur». Для одного из них Сологуб выбрал двухстопный анапест (Слезы в сердце упали), для второго — трехстопный дактиль (На сердце слезы упали) и для третьего — трехстопный ямб (В слезах моя душа). При подобном ясно заявленном метрическом поиске абсолютно необоснованными оказываются упреки Сологубу в том, что он якобы не мог выбрать сам из своих переводов лучший и вводил тем самым в заблуждение читателей. Переводы сосуществуют, не говоря уже о том, что в конечном счете читатель вправе выбрать один, наиболее созвучный его собственному метрическому камертону.
Еще одно обстоятельство обращает на себя внимание. Далеко не случайно Сологуб публикует разные версии в основном «Романсов без слов», т. е. стихотворений, в которых словесная ткань имеет меньшее значение, и большее — песенная стихия. По существу то, что он предлагает читателю, — это различные музыкальные вариации на заданные темы, жанр, не наносящий урона «теме» и вместе с тем существенно обогащающий слушателя.
Наличие различных версий сологубовских переводов из Верлена, в том числе неопубликованных, хранящихся в его архиве, а также тот факт, что многие из этих стихотворений существуют также в переводах других русских поэтов, дают редкую возможность заглянуть в творческую лабораторию поэта-переводчика, выявить основные особенности его переводческого метода.
И. Анненский, переводческие принципы которого были во многом близки Сологубу, так определил задачи, стоящие перед переводчиком стихотворного произведения: «Переводчику приходится, помимо лавирования между требованиями двух языков, еще балансировать между вербальностью и музыкой, понимая под этим словом всю совокупность эстетических элементов поэзии, которых нельзя искать в словаре. Лексическая точность часто дает переводу лишь обманчивую близость к подлиннику, — перевод остается сухим, вымученным, и за деталями теряется передача концепции пьесы. С другой стороны, увлечение музыкой грозит переводу фантастичностью. Соблюсти меру в субъективизме — вот задача для переводчика лирического стихотворения» (Анненский 1979а: 153). «Соблюсти меру в субъективизме», а главное, сбалансировать между «вербальностью и музыкой» — вот та задача, которая стояла перед самим Анненским, Сологубом, Брюсовым и другими русскими переводчиками Верлена.
Верлен в переводах Сологуба прекрасно иллюстрирует мысль Пастернака о том, что музыка слова состоит не в его звучности, а «в соотношении между звучанием и значением» (Пастернак 1944: 166). Музыка стиха Сологуба была в глазах его современников неоспоримым его достоинством. «Я не знаю среди современных русских поэтов, — писал, например, Л. Шестов, — чьи стихи были бы ближе к музыке, чем стихи Сологуба. Даже тогда, когда он рассказывает самые ужасные вещи — про палача, про воющую собаку, — стихи его полны таинственной и захватывающей мелодии»[35].
Редкой даже для Верлена является музыкальная насыщенность его «Chanson d’automne». Настроение задается первой строфой, построенной фактически на одной гласной «o» и на близкой к ней «eu»:
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne Blessent mon coeur D’une langueur
Monotone.
Ощущение томительной тоски передано уже первыми двумя строками, которые по существу представляют собой с фонетической точки зрения одно, на одной ноте растягиваемое слово. Еще более прихотливо организованы две первые строки последней строфы:
Et je m’en vais Au vent mauvais.
Мало того, что рифмуются не только слова, замыкающие каждую строку, но в первой из них глубокая рифма захватывает большую ее часть (m’en vais); рифма подхватывается началом второй строки (Аu vent) , и, уже повторенная и прозвучавшая, она переходит к слову, непосредственно выполняющему функцию рифмы (mauvais). Ложный путь в переводе Верлена для передачи его музыкальности — нагнетание однородных членов предложения, как это делает И. И. Тхоржевский (Нежный, тягучий / Скрипки певучей / Плач монотонный; Бледный, безвольный / Звон колокольный; В ветре сухие / Листья цветные) (Верлен 1911а: 29). В оригинале нет ни одной пары эпитетов. Сдваивание эпитетов порождает заунывность, причем не столько мелодическую, сколько смысловую, и в то же время упрощает стихотворение в эмоциональном плане. У перевода Н. Минского есть свои достоинства, однако помимо других недочетов в фонетическом отношении он совершенно нейтрален. Музыкальность сологубовского перевода обеспечивается несколькими различными приемами. Прежде всего средствами стихосложения, поскольку и здесь применено чередование двух ямбических строк и одной хореической. Прислушаемся и присмотримся внимательней к первой строфе:
О, струнный звон,
Осенний стон,
Томный, скучный.
В душе больной
Напев ночной
Однозвучный.
(с. 17)
Четыре последние строки связаны не только конечными рифмами, но и внутренними созвучиями. Кроме того, фонетически замкнутой оказывается вся первая строфа благодаря тому, что последняя строка в отношении гласных является зеркальным отражением первой. В последней строфе первая и четвертая строки представляют собой, каждая, два рифмующихся слова, поставленные рядом (что отвечает фонетической организации подлинника, подмеченной Сологубом уже в первой строке верленовского стихотворения): Душой с тобой; Мои мечты. Знаменательно, что, как и у Верлена, сологубовский перевод построен на звуке «о». Именно он является доминирующим, что в известной степени заложено в фонетической доминанте слова «осень» в обоих языках, гласной, на которую падает ударение и которая тем самым служит эвфоническим камертоном для лирического осеннего настроения.
Сознавая, что его переводы в отношении эвфонии проигрывают стихам Верлена, Сологуб при малейшей возможности компенсирует утраты в музыкальности стиха. Например, первые строки стихотворения «Simples fresques. I» у Верлена вполне нейтральны: La fuite est verdatre et rose // Des collines et des rampes. Уже в ранних версиях Сологуб попытался обыграть созвучие, таящееся в «долинах» и «дали». Поздний Сологуб обогатил звуковую игру ассонансами и аллитерациями, введением новой пары во второй строке:
И холмы, и долов дали
В розы, в прозелень одеты. (с. 55)
Вполне естественно, что насыщенность верленовского стиха внутренними ассонансами и аллитерациями, в которых заключается один из секретов эстетического воздействия, Сологуб передает в большинстве случаев по принципу сдвинутого эквивалента, т. е. воссоздавая утраченную при передаче той или иной строки особенность в другом месте стихотворения. Такова, например, строка «И песню их с лучом своим свивая» из стихотворения «Лунный свет», «свитая» падающим под ударение ассонансом «их—им» и переплетенная в единое «лунное» целое аллитерационной игрой трех «в», трех «с» и двух «м» в пределах трех ямбовых стоп.
Изощреннейшую звуковую структуру мы находим во многих строках сологубовских переводов: «Мукой осыпаны, как пылью смертных мук»; «Прозрачность волн, и воздух сладкий»; «Как рокочет соловей, / Как ручьи струятся» (в последних двух строках легко обнаруживаются элементы анаграммы: ккркчтслв/ккрчстртс). Соблюдая принципы фонетической адекватности, Сологуб добивается адекватности и стилистической (не исключено, впрочем, что путь был и обратный). Ключевая строка песенки «A poor young Shepherd», четырежды повторяющаяся на протяжении стихотворения, открывающая его и замыкающая — «J’ai peur d’un baiser» — вначале была передана Сологубом как «Я лобзанья боюсь» (1, 38, 5), однако потом заменена на стилистически и фонетически более удачную «Поцелуя боюсь», организованную связкой «ц—с», удачно нарушающей зеркальное отражение гласных: «о—у/о—у».
Несомненно, современники чутко ощущали эвфонические достоинства переводов Сологуба. Не случайно они столь остро реагировали на любые режущие слух фонетические промахи других переводчиков. В. Львов-Рогачевский, рецензент подготовленного Брюсовым издания «Французские лирики XIX века», упрекал поэта за то, что у Верлена, «поэзия которого соткана из лучших и едва уловимых шепотов», встречаются в брюсовских переводах такие тяжелые и неповоротливые фразы, как «Нет на тверди медной ни мерцанья света» или «Что ж ты сделал, ты, что плачешь, / С юностью своей»[36].
Как подчеркивал К. И. Чуковский, немалую ценность для своего времени имели сологубовские принципы эквиритмии (Чуковский 1968: 349–350). Эквиритмично большинство сологубовских переводов из Верлена. Однако подчас эта эквиритмичность достигается ценой известных потерь. Наряду и почти одновременно с Сологубом стихотворение Верлена «II pleure dans mon coeur» переводили Брюсов, Анненский, Д. Ратгауз, Н. Нович (Н. Н. Бахтин), С. Рафалович, А. Кублицкая-Пиоттух, С. Френкель, И. Эренбург[37]. Версии Анненского, Брюсова и Сологуба резко выделяются на фоне других, как правило переводящих верленовский романс в чуждом ему стилистическом регистре эпигонов Фета и Фофанова. Немаловажное значение имеет при этом нарушение эквиритмии. Так, из-за неудачно выбранного, не песенного, более протяженного, чем в оригинале, размера (Горько не знать, отчего и зачем / Я пред тоскою бессилен и нем. / Как без любви и без злобы страдать? / Как без причины в тоске изнывать?) не достигает своей цели тонкий и поэтичный, но многословный и как бы прозаизирующий и все проясняющий в импрессионистическом стихотворении Верлена перевод матери Блока А. Кублицкой-Пиоттух. Сологуб добился эквиритмии ценой отрывистости, ритмико-синтаксической раздробленности, при которой деление на строки практически совпадает с делением на предложения. Между тем в оригинале — гибкое и естественное сочетание длинных и коротких предложений, большая часть которых, плавно закругляясь, охватывает по две или четыре строки. Более внимательный и переводчески «хладнокровный» Брюсов попытался в этом смысле приблизиться к оригиналу. Стремление к ритмико-синтаксической естественности стихотворной речи позволило и Анненскому ощутить необходимость охватывать несколько строк одним предложением.
В других случаях, например при переводе стихотворения «Dans l’interminable», Сологубу удавалось добиться эквиритмии, сохраняя свободное дыхание, не обрывая искусственно фразы в конце каждой строки или двух строк, охватить всю строфу (в трех случаях из четырех) одним предложением, при том, что из восьми слов, из которых, как правило, состоит каждая строфа, четыре оказываются зарифмованными. Верлен выбрал для своего романса пятисложник. Вспомним, что он вообще считал стих, состоящий из нечетного числа слогов, обладающим повышенной музыкальностью. (И потому предпочти стих нечетный (1, 38, 19) — «Искусство поэзии»).
Своеобразие этого верленовского импрессионистического пейзажа, все образы которого эфемерны и летучи, достигается не только редким во французской поэзии пятисложником, но и сплошной женской рифмовкой, при различной системе рифмовки в самих строфах; и доминирующими в каждой из строф звуками — открытым «е» в 1-й, 3-й и 5-й, создающим впечатление однообразия, тоскливой монотонности и уныния, и гласной «и» во 2-й; и насыщенностью стихотворения словами, навевающими ощущение беспросветности и тоски, в ущерб тем немногим (5—6) вещественно-значимым словам, которые и можно только в нем насчитать (Эткинд 1961: 114–116). Приведем первые две строфы этого стихотворения.
Dans l’interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Перевод Сологуба, не будучи полностью адекватным оригиналу, тем не менее достаточно верно передает настроение и ритмический рисунок, и в то же время, за исключением нескольких откровенных и неудачных «подрифмовок» (Что ждет ваш полк), русский поэт в целом честно следует за авторским замыслом и передает его близко к тексту, без особых потерь и замен.
В полях кругом
В тоске безбрежной
Снег ненадежный
Блестит песком.
Как пыль металла,
Лазурь тускла.
Луна блуждала
И умерла. <...> (53)
Перевод Брюсова менее удачен прежде всего потому, что уже первая строфа создает у читателя ложное ожидание ответа на загадываемую загадку.
По тоске безбрежной,
По равнине снежной,
Что блестит неверно
Как песок прибрежный? (Верлен 1894: 14)
Между тем у Верлена речь идет всего лишь о снеге, который блестит как песок. Если в переводе Брюсова первоначальный просчет скрадывает многие частные удачи, то в версии, осуществленной Н. Новичем, первая строфа задает тон, в достаточной мере отвечающий оригиналу.
Скукою в долине
Безграничной веет.
Снег во мгле белеет
Как песок пустыни. (Верлен 1912: 50)
Однако эклектичная стилистика последующих строк (тут и «После жизни краткой / Умер месяц бледный», и «Дремлет лес могучий, / Головой качая») сводит на нет удачные находки.
Весьма показательна работа над переводами Сологуба, безжалостно забраковывавшего многие решения — метрические, лексические, синтаксические, фонетические — и упорно искавшего пути к адекватной передаче особенностей оригинала. В одном случае замены мотивировались стремлением устранить элементы чуждого Верлену высокого стиля (в стихотворении «Меня не веселит ничто в тебе, Природа» строка «Богатство, ни краса печального захода» (1, 38, 204) была заменена на «Заря, ни красота печального захода»), в другом — устранялась синтаксическая аморфность (в стихотворении «Алеют слишком эти розы» строки «В твоих движениях угрозы, / О, дорогая, мне измен» (1, 38, 387) заменяются на «О, дорогая, мне угрозы / В твоих движениях видны»). Первоначально при переводе стихотворения «Grotesques» в погоне за формальным соответствием Сологуб ценой смысловых утрат попытался передать звуковую игру 2-й строки 1-й строфы: «Но мрачный лик их людям лих» (1, 38, 39) (в оригинале — Pour tous biens l’or de leurs regards). Впоследствии он отказался от этой находки почти каламбурного свойства, перевел всю строфу нейтральнее и ближе к подлиннику. В ранней редакции 1-я строка верленовского стихотворения «II faut, voyez-vous, nous pardonner les choses» звучала абсолютно буквально: «Надо, видишь ли ты, кой-чему и прощать» (1, 38, 351). Все три окончательные версии, при некоторых отклонениях от «буквы» оригинала («Возлагать не будем друг на друга путы»; «Научися, мой друг, забывать и прощать»; «Знайте, надо миру даровать прощенье»), либо поэтичней, либо ближе по смыслу. Прекрасный пример того, как Сологуб, внося коррективы, последовательно улучшал перевод, являет его работа над верленовским «Калейдоскопом», окончательная редакция которого представляет собой несомненную переводческую удачу Сологуба. Первоначальный вариант 5-й и 6-й строф:
Букет увялый — речь минувших дней!
Публичный бал опять шумливым станет.
Вдова кокошником свой лоб затянет,
И замешается меж сволочей,
Что там бродят с толпою забубённой
Мальчишек и паршивых стариков.
Публичный праздник треском бураков
Потешится на площади зловонной. (1, 38, 415)
Окончательная редакция:
Букет увялый, древний перепев!
Народный бал опять назойлив станет.
Вдова повязкою свой лоб затянет,
Да и пойдет в среде продажных дев,
Что шляются с толпою развращенной
Мальчишек и поганых стариков,
И ротозеи треском бураков
Потешатся на площади зловонной. (с. 80)
Примером того, как, упорно улучшая перевод, поэт все же не достигал успеха, может служить сологубовская версия стихотворения «Bon chevalier masquй qui chevauche en silence», открывающего сборник «Мудрость». Заслугой Сологуба по сравнению с Анненским и Брюсовым, воссоздавшими это стихотворение с большим успехом, является, пожалуй, лишь добросовестная передача повторов и особенно «mon vieux coeur», повторенное три раза на протяжении шести первых строк. Насыщенность поэзии французского символизма повторами самого разного плана (повтор строфы, отдельных фраз, слов, повтор-подхват, анафорический повтор и т. д.) создавала особые трудности при воссоздании ее на инонациональной почве. Поэты-переводчики несимволистского круга не только не всегда придавали значение этим повторам, но подчас, по-видимому, сознательно устраняли их как элемент, наносящий вред художественному впечатлению. Анненский иногда компенсировал их иными стилистическими средствами. Брюсов нередко жертвовал ими, особенно повторами сложного типа, ради других особенностей оригинала. С другой стороны, внимательное отношение к столь значимому элементу поэтики французского символизма, как повторы, не могло гарантировать успеха. Перевод первого стихотворения сборника «Мудрость» грешит излишней риторичностью и некоторыми лексическими причудами:
Меня в тиши Беда, злой рыцарь в маске, встретил,
И в сердце старое копье свое уметил.
Кровь сердца старого багряный мечет взмах,
И стынет, дымная, под солнцем на цветах. (с. 67)
Причина неудачи вполне понятна. Это стихотворение-притча было достаточно чуждо поэтике Сологуба и в то же время достаточно органично для поэзии Брюсова. Что же касается Анненского, то причиной успеха является, скорее всего, та особенность его переводческого дара, которая, согласно А. В. Федорову, заставляла поэта стремиться воссоздать на русской почве в равной мере и то, что было ему близко, и то, что было чуждо его творческой индивидуальности (Федоров 1983а: 200–201). У того же Верлена Анненского привлекли такие длинные и сюжетные стихотворения, не привлекавшие, как правило, внимание других переводчиков, как «Преступление любви» и «Я — маниак любви».
Вполне естественно, что программное стихотворение сборника «Мудрость», знаменующее новый этап в творческой биографии Верлена, не заинтересовало Сологуба в 1890-е годы. Однако, переиздавая сборник в расширенном виде, поэт не счел возможным оставить его в стороне. Тем не менее лирической стихии таланта Сологуба оказалась чуждой несколько абстрактная основа этого стихотворения, повествующего о религиозном обращении французского поэта. В сологубовском преломлении стихотворение приобрело патетический и одновременно мелодраматический оттенок, отсутствующий в оригинале. Трудно угадать Верлена в таких, например, строках, как: Глаза мне гасит мрак, упал я с громким криком, / И сердце старое мертво в дрожаньи диком.
Таким образом, даже при переводе близкого ему Верлена Сологуб, тонко ощущавший музыкальную.основу его лирики и бережно относившийся к остальным уровням и элементам стиха, далеко не всегда был удачлив. Не удалось ему, равно как и другим русским поэтам-переводчикам, его современникам, создать адекватную русскую версию одного из самых трагичных стихотворений сборника «Мудрость» «Un grand soleil noir»:
Я в черные дни
Не жду пробужденья.
Надежда, усни,
Усните, стремленья!
Спускается мгла
На взор и на совесть.
Ни блага, ни зла, —
О, грустная повесть!
Под чьей-то рукой
Я — зыбки качанье
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье! (с. 74)
Настроение безысходности, усиливающееся в подлиннике от строки к строке, от строфы к строфе, у Сологуба несколько размыто. Утрачен поразительный образ опускающегося на жизнь необъятного черного сна (Un grand soleil noir / Tombe sur ma vie); «Tout espoir» и «toute envie» передано ослабленно, как просто «надежда», «стремленье». Определеннее, чем у Сологуба, у Верлена выражена утрата представлений и памяти о добре и зле. Брюсову также не удалось в достаточной мере сохранить ни равнозначность впечатления, ни музыкальность этого стихотворения. Существенно обедняет верленовский замысел последняя строка в его переводе: «О тише, тише, тише!». В оригинале — не призыв, а горестная констатация тишины, сопутствующей непроглядному мраку, — «Silence, silence!». Однако, как в других примерах, достоинства переводов Сологуба и Брюсова проступают нагляднее при сопоставлении их с другими современными им версиями. Так, П. Н. Петровский утратил по существу все ключевые для этого стихотворения особенности. «Огромный, черный сон» оказался у него просто «сном». В следующей строфе четко и ясно изложено признание в аморализме: «И забывает совесть / Где грань добра и зла» (Верлен 1912: 61), enjambement (Незримая рука / Качает. Тише, тише!) разрушает впечатление от последней строки, которая у Верлена двумя тяжелыми идентичными аккордами ставит музыкальную точку в этом своеобразном лирическом реквиеме. Еще беспомощнее перевод С. Рафаловича, в котором неудачно все, начиная с размера (четырехстопного хорея) и кончая вопиющими отклонениями от оригинала и одновременно стилистическими трюизмами.
Сологуб, Анненский и Брюсов вступили в своеобразное творческое соревнование при переводе еще одного верленовского шедевра — «Je devine, a travers un murmure». Анненский отказал своей и сологубовской версии в праве на существование: «Сологуб перевел его плохо, а я сам позорно» (Анненский 1979: 356). Думается все же, что, если это соревнование все трое проиграли, то опыт блистательных переводчиков, подходивших к оригиналу с различных позиций, чрезвычайно поучителен, не говоря уже о многочисленных несомненных частных достоинствах каждой из версий. По-видимому, напрасно Сологуб не поддался навеиваемому уже первой строкой верленовского стихотворения трехстопному анапесту, как это сделали Анненский («Начертания ветхой триоди») и Брюсов («Позабытое в ропоте чую»). Сочетание чередующихся шестистопного и пятистопного ямба («Мне кротко грезится под шепотом ветвей / Былых бесед живое очертанье») оставляло слишком много «свободного» стихотворного пространства, с неизбежностью покрываемого избыточными эпитетами («звучное мерцанье», «бредом жарким», «призывом ярким»).
Специфика переводческого метода Анненского позволяет поставить вопрос о существовании импрессионистического перевода и о его принципах. По существу принципы импрессионистического перевода, которые поэт с успехом применял на практике, определены еще Брюсовым, хотя он и не уточняет, что речь идет о творческой деятельности Анненского в целом: «Манера письма И. Анненского — резко импрессионистическая; он все изображает не таким, каким он это знает, а таким, каким ему это кажется, причем кажется именно сейчас, в данный миг. Как последовательный импрессионист, И. Анненский далеко уходит не только от Фета, но и от Бальмонта; только у Верлена можно найти несколько стихотворений, равносильных в этом отношении стихам И. Анненского» (Брюсов 1973б: 336). Из перевода Анненского, завораживающе-изысканного, помимо прочего исчезает лирический герой, который прямо взывает к смерти, обрамляя своим призывом последнюю строфу стихотворения. В его версии:
О, развеяться в шепоте елей...
Или ждать, чтоб мечты и печали
Это сердце совсем закачали
И, заснувши... скатиться с качелей? (Анненский 1988: 215) —
упоминание Смерти затабуировано, что усиливает ощущение загадочности, т. е., по-видимому, то самое впечатление, которое привлекло внимание Анненского и воссоздавая которое он пожертвовал многими другими элементами текста. Значительно ближе к оригиналу Сологуб в своем раннем переводе:
О, если бы теперь пришла ты, смерть моя,
Пока любовь колеблется с тоскою
Меж старых снов и жизнью молодою!
О, как бы в зыбке той неслышно умер я!
(с. 96)
Перевод Брюсова, на первый взгляд как будто неточный, очень точен по существу, поскольку достаточно адекватно передает настроение и подтверждает, таким образом, ту оценку, которую позднее поэт давал своим ранним переводческим принципам[38]. Любопытно, что в поздней версии Сологуб при выборе размера последовал примеру Анненского и Брюсова, правда, выбрав не трехстопный анапест, а пятистопный хорей, обманывая метрическое ожидание читателя, поскольку первая строка его перевода амбивалентна: «Я угадываю сквозь шептанья». В соответствии с семантическим ореолом шестистопного хорея по сравнению с более мелодическим и «томным» трехстопным анапестом перевод Сологуба более энергичен.
Странно было бы ждать от Сологуба (равно как и от других русских переводчиков) сохранения многих весьма специфических особенностей лирики Верлена, таких как, например, очевидная тенденция к ассонансной рифме или отмеченное А. Аданом предпочтение, отдаваемое французским поэтом самому незначительному, самому бесцветному, самому «бездеятельному» глаголу «кtre» (Adam 1953: 95). Потребность в расшатывании традиционной системы рифм ощущалась Сологубом, как и другими старшими символистами, в значительно меньшей степени, чем поэтами следующих поколений. Однако позднее, в 1900-е гг., переводя Рембо, Сологуб попытался вводить ассонансы в свои переводы[39]. Что же касается приверженности Верлена глаголу «etre», то Сологуб при всей нарочитой ограниченности собственного словаря не ощутил этой особенности поэтики французского поэта, по-детски непосредственно прикасавшегося ко всем проявлениям мира и как бы впервые описывающего их. Эта кажущаяся и производящая впечатление несколько примитивной простота Верлена либо не замечалась русскими переводчиками, либо отталкивала и заставляла разнообразить свой язык.
Поздние версии в целом существенно отличаются от ранних. Готовя к печати сборник 1923 г., Сологуб уже не допускает никакого полифонизма и ориентации читателя на взаимодополняемость различных версий и во всех случаях при наличии нового перевода публикует его в основном тексте, а старую или старые версии — в Приложении. Отличие в самых общих чертах новых переводов от старых верно охарактеризовано М. И. Дикман: «Новый перевод, вербально точный, буквально передающий рисунок подлинника, уступает первым редакциям в поэтической верности» (Дикман 1975: 70). Сравним, например, одну из ранних версий стихотворения «L’ombre des arbres dans la riviиre embrumйe» с поздней.
Оригинал:
L’ ombre des arbres dans la riviиre embrumйe
Meurt comme de la fumйe,
Tandis qu’en l’air, parmi les ramures rйelles,
Se plaignent les tourterelles.
Combien, ф voyageur, ce paysage blкme
Те mira blкme toi-mкme,
Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillйes
Tes espйrances noyйes!
Ранняяредакция:
Встает туман с реки, и тень деревьев тонет,
Как в дымные струи,
А наверху в ветвях рой горлиц грустно стонет
Про бедствия свои.
О, странник, бледен ты, бледна вокруг долина,
Как здесь на месте ты!
Как плачет над тобой в ветвях твоя кручина
Про мертвые мечты! (с. 99)
Поздний вариант:
Деревьев тень в реке упала в мрак туманный,
Словно в саван, дымом тканный,
И плачет в воздухе там, с веток настоящих,
Песня горлинок неспящих.
Так метко отражен в картине этой бледной
Ты, сам бледный, странник бедный,
И высоко в листве заплакали, так жалки,
Всех твоих надежд русалки! (с. 54)
Поздний перевод этого стихотворения, более рассудочный, более точный, показателен и в ином плане: внимательное отношение к оригиналу нередко было формальным. Пытаясь воспроизвести во 2-й строке 2-й строфы внутреннюю рифму, тем более что она представляет собой эхо рифмы предыдущей строки (Combien, ф voyageur, ce paysage blкme / Те mira blкme toi-mкme), Сологуб прибегает к явно неудачной и даже слегка комичной грамматической рифме. Как и в 1-й строфе, где Сологуб сохранил теперь «настоящие» ветки, не слишком удачно, впрочем, их назвав, он попытался ценой очевидных утрат передать особенности подлинника, не нашедшие отражения ни в одной из трех ранних редакций. Перевод этого верленовского стихотворения являет также пример того, что поздний Сологуб не только в большей степени, чем ранее, стремился к вербальной и формальной точности, но по возможности расшифровывал стихотворение и интерпретировал. Верленовских «Tes espйrances noyйes», т. е. утонувшие надежды, а пожалуй, даже утонувшие в слезах, захлебнувшиеся ими, поскольку они плакали высоко в листве, Сологуб истолковывает как «русалок надежд».
Впрочем, было бы неверно утверждать, что, работая над переводами Верлена заново, Сологуб только ухудшал их. Ему удалось устранить немало неточностей или манерно звучащих строк. Например, 1-я строка стихотворения «Je ne t´aime pas en toilette» в издании 1908 г.: «Я враг обманам туалета», а в издании 1923 г. — «Я не люблю тебя одетой». Наконец, среди поздних редакций встречаются такие несомненные удачи, как перевод стихотворения «Сплин»:
Алеют слишком эти розы,
И эти хмели так черны.
О, дорогая, мне угрозы
В твоих движениях видны.
Прозрачность волн, и воздух сладкий,
И слишком нежная лазурь.
Мне страшно ждать за лаской краткой
Разлуки и жестоких бурь.
И остролист, как лоск эмали,
И букса слишком яркий куст,
И нивы беспредельной дали, —
Все скучно, кроме ваших уст. (с. 58)
Ранний перевод был весьма приблизительным и несколько «бульварным».
Розы были слишком красны,
Были так плющи темны!
Дорогая, как опасны
Эти прелести весны!
Небо сине, небо нежно,
В море блещет радость дня.
Я страдаю безнадежно, —
Вдруг покинешь ты меня!
Эти нивы без предела,
Эти яркие цветы, —
Все мне страшно надоело,
Не наскучила лишь ты. (с. 102)
Начало 90-х гг., время особенно интенсивных переводов Сологуба из Верлена, совпадает с упорным стремлением поэта определить собственное место в литературе, с поразительным по темпам ростом поэтического мастерства. В известном смысле переводы из Верлена послужили для него школой отработки литературных приемов, метрических и стилистических исканий. И это обстоятельство является, по-видимому, еще одной причиной обилия различных переводческих решений. Не случайно в папке с переводами из французского поэта вперемешку с ними хранятся созданные в то же время оригинальные стихотворения. Вполне естественно, что отдельные стихи русского поэта оказались навеянными мотивами лирики Верлена. Еще в 1909 г. в статье «О современном лиризме» Анненский высказал предположение, что сологубовские «Чертовы качели» восходят к последней строке верленовского стихотворения «Je devine, а travers un murmure» — О mourir de cette escarpolette. Мотивы этого стихотворения Верлена действительно нашли отражение у Сологуба, однако, как нам представляется, не в «Чертовых качелях», а, скорее, в другом стихотворении, написанном, кстати сказать, в отличие от последнего, датируемого 1907 г., 9 июля 1894 г., т. е. всего лишь год спустя после работы Сологуба над переводом (6–7 августа 1893 г.). Сравним с приводимой выше верленовской строфой в раннем переводе Сологуба стихотворение «Качели»:
В истоме тихого заката
Грустило жаркое светило.
Под кровлей ветхой гнулась хата
И тенью сад приосенила.
Березы в ней угомонились
И неподвижно пламенели.
То в тень, то в свет переносились
Со скрипом зыбкие качели.
Печали ветхой злою тенью
Моя душа полуодета,
И то стремится жадно к тленью,
То ищет радостей и света.
И покоряясь вдохновенно
Моей судьбы предначертаньям,
Переношусь попеременно
От безнадежности к желаньям. (Сологуб 1975: 122)
Образ качелей, на которых «любовь колеблется с тоскою», был подхвачен русским поэтом, которому были созвучны настроения перехода «попеременно от безнадежности к желаньям», от радостного принятия жизни до упоенности смертью.
Можно предположить, что стихотворение «Дождь неугомонный», также написанное в 1894 г., т. е. в период наиболее напряженной работы Сологуба над переводами из французского поэта, непосредственно вдохновлено стихотворением Верлена «II pleure dans mon coeur»:
Дождь неугомонный
Как всегда случаен
Шумно в стекла бьет,
Вот и этот день,
Точно враг бессонный,
Кое-как промаен
Воя слезы льет.
И отброшен в тень.
Ветер, как бродяга,
Но не надо злости
Стонет под окном.
Вкладывать в игру,
И шуршит бумага
Как ложатся кости,
Под моим пером.
Так их и беру. (Сологуб 1975: 125)
Для передачи сходного с верленовским настроения Сологуб воспользовался иным, чем во всех трех опубликованных переводах, размером — трехстопным хореем. Однако он вполне мог быть выбран и для перевода (как, например, в переводе С. Рафаловича). Стихотворение Сологуба, так же как и верленовское, состоит из четырех строф. Точно так же уже в первых строках в нем возникает аналогия «дождь» — «слезы». Наконец, в нем звучат те же ноты меланхолии и тоски. При жизни Сологуба это стихотворение напечатано не было. Вероятно, поэт сознавал явную соотнесенность своего произведения с верленовским текстом и решил не выносить на суд читателя стихотворения, представляющего собой его отголосок, хотя и вполне органичный и художественно полновесный.
Между тем в целом поэзия Сологуба ни в коей мере не развивалась «под знаком» Верлена. По справедливому утверждению Ю. Смаги, тот тип импрессионизма, который воплотил Верлен, не нашел отзвука у Сологуба, принципиально избегавшего лирической «полноводности колористических эффектов и пассивного растворения в красоте мира». Подобный принцип спонтанности был чужд автору «Пламенного круга», поскольку его творческое воображение имело в основном «организованный» характер, исчерпывающийся «манией трагического одиночества и печали, иллюстрированной одними и теми же образами и мотивами» (Smaga 1980: 443–444).
5
Сологуб не обладал отмеченной Блоком у Анненского способностью «вселяться в душу разнообразных переживаний» (Блок 1962б: 621). Поэтому предпринятая им попытка воссоздать значительную часть стихотворного наследия Артюра Рембо не увенчалась таким успехом, как перевод лирики Верлена. В личном архиве Сологуба сохранились осуществленные им переводы почти всех «Последних стихотворений» французского поэта («Larme», «La Riviиre de Cassis», «Comйdie de la soif», «Chanson de la plus haute tour», «L’Йternitй», «Age d’or», «Bruxelles», «Est-elle aimйe?.. aux premiйres heures bleues», «Qu’ est-ce pour nous, mon coeur, que les nappes de sang», «Michel et Christine», «Honte», «Ф Saisons, ф chateaux»), а также выполненные им подстрочники большого числа стихов предыдущего периода («Sensation», «Venus Anadyomиne», «Le Coeur volй», «Rкvй pour l’hiver», «L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple», «Le Buffet»). Таким образом, в отличие от других ранних (и немногочисленных русских переводчиков Рембо (см.: Поступальский 1982: 478–484) Сологуб не только предполагал максимально широко охватить и освоить творчество французского поэта, но и осуществил свое намерение, переведя наиболее «темные» стихи Рембо, те, в которых, согласно Брюсову, мы обнаруживаем «мозаику слов и выражений, которая должна слиться в душе читателя в одно целое впечатление» (Брюсов 1937: 272).
Вероятно, Сологубу была близка «романсовая»[40], музыкальная основа «Последних стихотворений». В любом случае первостепенное значение имеет тот факт, что Сологуб был единственным по сути дела русским литератором, обратившимся к наиболее «символистским» произведениям поэтов Франции: в 1900-е и 1910-е гг. — к «Последним стихотворениям» и «Озарениям» Рембо, а в 1898 г. — к «Стихотворениям в прозе» Малларме, в то время как в основном русские символисты осваивали либо близкую поэтике Парнаса лирику ранних Малларме и Верлена, либо импрессионистические «пейзажи души» того же Верлена, либо ранние, имеющие лишь косвенное отношение к символизму стихи Рембо.
Своими стихотворными переводами из Рембо Сологуб, по-видимому, остался недоволен и не счел возможным обнародовать их. Тот факт, что Сологуб таил свои переводы, дал основание Б. Лившицу утверждать: «...в ту пору мало кто читал Рембо в оригинале. Из русских поэтов его переводили только Анненский, Брюсов да я» (Лившиц 1989: 317).
Хранящиеся в архиве Сологуба рукописи переводов из Рембо дают возможность приоткрыть завесу над одной из тайн переводческого метода поэта, его умением во многих случаях удивительно точно воссоздавать образную и смысловую стороны оригинала, восхищавшей современников его способностью передавать подлинник «с точностью буквальной» (Волошин 1988: 442). Причину близости, но одновременно смысловой и синтаксической запутанности отдельных строк и строф по сравнению с прозрачностью оригинала, пусть даже не поддающегося однозначному толкованию, проясняет творческая лаборатория поэта. Формальная близость достигается методом художественного стихотворного перевода, осуществляемого непосредственно на материале подстрочника, т. е. рифмованным стихом, надписываемым над строкой черновой машинописи подстрочника. Этот переводческий прием, таящий в себе немалую опасность, которую Сологубу далеко не всегда удавалось избежать, позволял ему тем не менее в ряде случаев точно и с художественной точки зрения адекватно воссоздавать значимые элементы оригинала в прямом, почти зеркальном отражении. Для иллюстрации можно привести первые строфы стихотворения «Qu’ est-ce pour nous, mon coeur, que les nappes de sang» и «Chanson de la plus haute tour» в подстрочнике и в окончательной редакции:
Что для нас, мое сердце, скатерти крови,
И жара, и тысячи убийств, и продолжительные крики
Ярости, рыданья всего ада, поворачивающие
Порядок; Аквилон еще на обломках;
(1, 44, 300)
Что нам, душа моя, кровавый ток,
И тысячи убийств, и злобный стон,
И зной, и ад, взметнувший на порог
Весь строй; и на обломках Аквилон.
(Рембо 1982: 401)
Праздная юность,
Ко всему порабощенная
Чувствительностью.
Я потерял мою жизнь,
А! Пускай придет время,
Когда сердца пленятся!
(1, 44, 304)
Юность беспечная,
Волю сломившая,
Нежность сердечная,
Жизнь погубившая, —
Срок приближается,
Сердце пленяется!
(Рембо 1982: 412)
Национальное своеобразие русского символизма обусловило то обстоятельство, что не только «Последние стихотворения» Рембо с их фрагментарной, во многом иррациональной метафоричностью, но и геометрически выверенные ассоциативные напластования «Стихотворений в прозе» Малларме, и одно из вершинных для символизма Франции произведений — «Озарения» Рембо оставили по существу равнодушными переводчиков и издателей. Смелая попытка Сологуба воссоздать их на русской почве увенчалась успехом лишь отчасти, поскольку напечатанной оказалась лишь меньшая часть переведенных им «Озарений», и то в новую литературную эпоху, лишь в 1915 г., в футуристическом издании, когда эстетические искания Рембо, намного опередившего свое время, наконец стали находить в авангардистских кругах Европы своего читателя. При этом в теоретических высказываниях, особенно Брюсова, наиболее сведущего в вопросах французского символизма, достоинства, присущие как «Озарениям» и «Последним стихотворениям» Рембо, так и «Стихотворениям в прозе» Малларме, всячески приветствовались. «Но мы не замкнуты безнадежно в этой “голубой тюрьме” — пользуясь образом Фета, — утверждал Брюсов. — Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы — те мгновения экстаза, сверхчувствительной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Истинная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные, тайные чувствования» (Брюсов 1973б: 86). Экстаз, сверхчувствительная интуиция, прозрения, с одной стороны, и загадочность недосказанного — с другой, как принципы новой поэзии, как основа творчества — все это обнаруживается и в высказываниях Рембо и Малларме, однако у них в отличие от Брюсова эти высказывания вырастали из художественного творчества, питались им, а подчас одним из проявлений художественного творчества и являлись. «Я писал молчание и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновения», — признавался в «Одном лете в аду» Рембо (Рембо 1982: 168). Один из самых знаменитых заветов Малларме гласит: «Назвать предмет — значит уничтожить на три четверти наслаждение от поэмы, которая создается из постепенного угадывания: внушить его образ — вот мечта <...> В поэзии всегда должна быть тайна, и назначение литературы — а других у нее нет — навевать образы предметов» (Mallarme 1945: 869). Отголоском этого тезиса французского поэта представляются следующие теоретические соображения Сологуба: «Поэтому в высоком искусстве образы стремятся стать символами, т. е. стремятся к тому, чтобы вместить в себя многозначительное содержание, стремятся к тому, чтобы это содержание их в процессе восприятия было способно вскрывать все более и более глубокие значения. В этой способности образа к бесконечному его раскрытию и лежит тайна бессмертия высоких созданий искусства. Художественное произведение, до дна истолкованное, до конца разъясненное, немедленно же умирает, жить дальше ему нечем и не зачем»[41]. Впрочем, сходство эстетических манифестов не должно вводить нас в заблуждение относительно особенностей поэтики и стиля: в художественном творчестве Рембо и Малларме, — скорее, «темные» поэты, а Сологуб — «ясный». Однако для русской культуры конца XIX — начала XX в. немаловажно, что Сологуб был единственным среди всех русских символистов, если не считать отдельных версий Брюсова, переводившего многое из новой поэзии Франции для «полноты картины», кто обратился к произведениям Рембо и Малларме, построенным на принципах суггестивного искусства, основой которых являются «прозрения» и метафорическая вязь ассоциаций.
По-видимому, «Стихотворения в прозе» Малларме Сологуб переводил по одному из двух изданий (1896, 1897) «Уклонов» (Divagations) — сборника, включавшего в себя избранные прозаические произведения поэта, а также «Стихотворения в прозе». Основанием для такого предположения является и время работы над переводами (1898), и состав переведенного. Сологуб перевел все двенадцать «Стихотворений в прозе», входящих в первый раздел, озаглавленный как «Анекдоты и поэмы». Им были также переведены: открывавшее сборник Предисловие, прозаическое «Столкновение», также включенное в раздел «Анекдоты и поэмы»; полностью второй раздел «Книги на диване», включавший две миниатюры: «Некогда на полях Бодлера» и «Отрывок, чтобы вкратце повторить Ватека»; из третьего раздела — медальонов или портретов — второй из них, посвященный Верлену и представляющий собой надгробную речь. Отдельные «Стихотворения в прозе» французского поэта переводили и до Сологуба[42] (в том числе Брюсов, напечатавший свои переводы «Осенней жалобы» и «Трубки» под псевдонимом «М.»), выбирая при этом те из них, которые наибольшим образом соответствовали представлению о лирической прозе.
Несомненный интерес представляет обращение Брюсова к «Стихотворениям в прозе» Малларме еще в 1894 г. Этот перевод, — скорее, знак приобщения к имени и к тому ассоциативному кругу значений, которые это имя несет, чем свидетельство заинтересованного, подлинно творческого отношения. Тайную отчужденность «римлянина» Брюсова от декадентской утонченности Малларме подметил Волошин: «Знаменательна эта привязанность Брюсова к Риму. В ней находим мы ключи к силам и уклонам его творчества. Ему чужды изысканный эстетизм и утонченные вкусы культур изнеженных и слабеющих. В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи “декаданса” в том смысле, как его понимали и признавали себя “декадентами” Маллармэ и его группа» (Волошин 1988: 415). Что же касается жанра стихотворения в прозе, то позднее Брюсов, ставший уже мэтром и давно убедившийся в самоценности своей эстетической программы, высказался о них с нескрываемой неприязнью (хотя образцы, представленные в творчестве Малларме, он и выделит как «подлинные»): «Не помню, кто сравнил “стихотворения в прозе” с гермафродитом. Во всяком случае это — одна из несноснейших форм литературы. Большею частью — это проза, которой придана некоторая ритмичность, т. е. которая окрашена чисто внешним приемом. Говоря так, я имею в виду не принципы, а существующие образцы. Подлинные “стихотворения в прозе” (такие, какими они должны быть) есть у Эдгара По, у Бодлера, у Малларме — не знаю у кого еще» (Брюсов 1973б: 352).
Малларме наряду с Рембо и вслед за Алоизиусом Бертраном и Бодлером был одним из тех, кто создал феномен французского стихотворения в прозе. Повествовательно-логический уровень текста предельно расшатан у Малларме ассоциативными вкраплениями, а стройная и жесткая во французском языке система синтаксических норм подвергнута бессистемной и прихотливой ломке. В результате даже элементы традиционной образности выступают в новом свете. Под пером Малларме и Рембо стихотворение в прозе превратилось в жанр, во многом противоположный «поэтической», «ритмической», «лирической» прозе[43]. «Одну из самых для себя подходящих поисково-испытательных площадок, — пишет С. Великовский, — такое бесконечно возобновляемое изобретательство открыло в том оксюморонном жанровом образовании, каким утвердилось в последней трети XIX века французское стихотворение в прозе. При переводе на русский словосочетание роиmе en prose надо бы брать в кавычки: у французов стиха-то здесь нет и в помине. Нет ни повторяющейся одноразмерной плавности, ни хотя бы легкой, время от времени дающей о себе знать версетной ритмизации, ни окказиональной рифмизации. Наоборот, стихотворение в прозе зачастую противоположность тому, что именуется “поэтической прозой” за свое более или менее очевидное метрическое благозвучие» (Великовский 1987: 171–172).
Сологуб создавал аналог стихотворению в прозе Малларме, опираясь на русскую традицию ритмической прозы, пытаясь при этом следовать и тем рекомендациям, которые в связи со спецификой языковой реформы, осуществленной Малларме, он мог почерпнуть из работ о французском поэте в русских журналах[44], и отмеченным им самим во время чтения. Аналогом индивидуального и не переносимого автоматически из одного языка в другой синтаксиса Малларме (равно как и Рембо) оказывались специфические особенности порядка слов в оригинальной прозе Сологуба, от которых он в переводах не только не отказывался, но которые явственно подчеркивал. «Специфически же сологубовское, — отмечал известный литературный критик Н. Ф. Чужак, — в фразе: “грустные нахлынут вдруг вереницы”. В порядке традиционного синтаксиса следовало бы сказать так: “вдруг нахлынут грустные вереницы” <...> Совсем иное — в расстановке Сологуба. Прилагательное “грустные”, не давая точного понятия о чем-либо определенном, тем не менее настраивает нас заранее на соответствующий тон, рождая настроение и заставляя творчески предвосхитить весь образ “грустные воспоминания”»[45]. Сравним с цитируемой Чужаком фразой из рассказа «Старый дом» фразу из «Будущего феномена» Малларме в переводе Сологуба, построенную по законам его собственного синтаксиса: «...я почувствовал, что моя рука, отраженная витриною лавочки, ласкающий делала жест...» (1, 42, 44)[46].
Переводческая установка Сологуба при воссоздании «Стихотворений в прозе» Малларме (равно как и выполненных позднее переводов «Озарений» Рембо) основана на уважении к авторской воле, сопряженном с некоторой растерянностью. Прихотливая вязь скрепленных скорее звучанием, чем значением ассоциативных образов и слов ставит переводчика перед проблемой выбора: либо пытаться расшифровать для себя логику этой вязи и, таким образом, обрести творческую способность писать на родном языке, как и поступили авторы опубликованных в 90-е гг. переводов, сведя «Стихотворения в прозе» Малларме к довольно банальной и несколько претенциозной лирической прозе[47] (по принципу соответствия представлениям о «поэтической» прозе тексты и отбирались для перевода), либо, доверившись автору и пожертвовав «свободой», идти за ним почти вслепую, если не «след в след», то во всяком случае довольно близко в лексическом и ритмико-синтаксическом отношении. Сологуб не мог не сознавать, что, следуя второму принципу, он рискует утратить как ассоциативную, так и фонетическую органичность оригинала, однако справедливо считал, что произвольная дешифровка наносит не меньший вред. Допуская возможность иррациональных пассажей в оригинале, Сологуб не подвергал перевод рациональному «фильтру», особенно в тех случаях, когда был удовлетворен им с фонетической точки зрения. И все же в целом, по всей видимости, он остался недоволен результатом и не решился опубликовать свою работу либо не нашел издателя, сумевшего довериться его переводческой интуиции.
Вне всякого сомнения, «Озарения» Рембо Сологуб переводил по изданию 1896 г.[48], включавшему в себя как раз те из «Последних стихотворений», версии которых он также осуществил. Немаловажно и то обстоятельство, что он перевел все «Озарения», входившие в издание 1896 г., тогда как над тремя из пяти «Озарений», впервые опубликованных лишь в 1895 г. («Fairy», «Война» и «Гений»), он только начал работу, не завершив ее. Изданной оказалась лишь часть переведенного — четырнадцать из двадцати одного стихотворения.
В «Озарениях» Рембо французское стихотворение в прозе окончательно порывает с повествовательными или описательными «опорами» и окончательно обретает «чистоту собственного лирического смыслоизлучения» (Великовский 1987: 172). «В “Озарениях" , — отмечает Н. И. Балашов, — Рембо отходил от передачи содержания синтаксически организованным словом и сознательно намеревался (не то делая это невольно в результате «расстройства всех чувств») косвенно подсказывать идеи зрительными ассоциациями, звуковыми сочетаниями, ритмом и самой разорванностью логической и синтаксической бессвязностью отрывков» (Рембо 1982: 271–272). Подобно самому поэту, переводчик «Озарений» «достигает неведомого»[49].
При переводе «Озарений» Сологуб остался в целом верен тем принципам, которым он следовал при работе над «Стихотворениями в прозе» Малларме. Минимально организуя текст в стилистическом, синтаксическом и логическом отношении, он минимально же интерпретирует его, минимально вторгается в него и трансформирует его. Как и в переводах из Малларме, в сологубовских версиях «Озарений» налицо известный элемент буквализма, обратной стороны его попыток избежать гладкописи и расшифровки и добиться наибольшей выразительности. Калькирование и буквалистичность в ряде случаев даже усиливали отстраненность, поэтическую непредсказуемость прихотливой фантазии Рембо. Порядок слов («Волнистые цветы гудели. Склоны вала их убаюкивали. Животное сказочно-изящное кружилось»), нарочитое псевдокосноязычие («Зачем просвету окошечка побледнеть в углу свода»; «...когда алые окраски опять поднялись на домах»), стремление добиться возникновения поэтических образов соположением, а не связью поставленных рядом слов («Глухие, пруд, — пена, катись по мосту...»; «Я творил по ту сторону полей, пересеченных повязками редкой музыки, фантомы будущей ночной роскоши»; «...звоны вращаются в твоих светлых руках»), богатая и искусная фонетическая организация текста, опровергающая, кстати говоря, возможные обвинения в «тотальной» буквалистичности («Как воют шакалы в пустыне тмина, — и как пасторали в сабо воркочут во фруктовом саду»; «Он вздрагивает при проходе охот и орд»), лексическая причудливость стиля («Ветки и дождь мечутся в окно библиотеки»; «Потом в фиалковой чаще, наливающей почки...»), нагнетание местоимений благодаря буквальному переводу притяжательных местоимений: мой, мою, меня, моей, — все это вместе создавало достаточно близкий оригиналу поэтический эффект.
Своими неопубликованными переводами «Стихотворений в прозе» Малларме и частично опубликованными «Озарениями» Рембо, весьма далекими от эстетических исканий русских символистов, Сологуб прокладывал дорогу русскому авангардизму, экспериментам футуристов (не случайно «Озарения» были опубликованы в «Стрельце», издаваемом Бурлюком, переводившим Рембо), а в какой-то мере и обэриутов. Такие особенности авангардистских течений 1920-х гг., как «автоматическое письмо», сюрреалистическая «под-реальность», «поток сознания», во многом восходили к эстетическим открытиям Малларме и особенно Рембо. Таким образом, Сологуб, переводя французских символистов, в известной мере обгонял литературное течение, к которому принадлежал[50].
6
Велико значение сологубовских переводов из Верлена, а в какой-то мере и из Рембо и Малларме в истории воссоздания творчества поэтов Франции на русской почве. Глубоко ошибочна оценка переводов Сологуба как эпигонских (при сопоставлении их с брюсовскими и наряду с версиями, выполненными О. Чюминой, А. Кублицкой-Пиоттух и др.)[51]. Неправ также Ю. Ороховацкий, утверждавший, что «никогда не было так очевидным превосходство этого искусства (поэтического перевода, — В. Б.) над самой поэзией, как на рубеже минувшего и нынешнего столетий»[52]. Уровень переводов определялся уровнем поэзии, а не возвышался над последним, будучи от него оторван и ему противопоставлен. Превосходство символистских переводов из Верлена над переводами эпигонов предшествовавшего литературного поколения обеспечивалось не только тем, что символисты переводили символистскую лирику, но и масштабами поэтических дарований.
Принцип «золотой середины», стремление «соблюсти меру в субъективизме» — вот те основы, на которых, каждый по-своему, строили свою переводческую деятельность Сологуб, Брюсов и Анненский. Однако если рассмотреть не переводческие принципы, а результаты их усилий по приобщению русского читателя к лирике Верлена, то придется признать, что к этой «середине» более других был близок Сологуб (в то время как версии, выполненные Брюсовым, скорее отвечают принципам формальной эквивалентности, а версии Анненского — динамической)[53], и в этом качестве многие из его переводов завещаны будущим поколениям русских читателей. 2 декабря 1907 г. Блок писал Сологубу по поводу стихотворения Верлена «Синева небес над кровлей» в сологубовском переводе: «Вы знаете, что это последнее стихотворение попалось мне очень давно и было для меня одним из первых острых откровений новой поэзии. Оно связано для меня с музыкой композитора С. В. Панченко <...> С тех пор ношу это стихотворение в памяти, ибо оно неразлучно со мною с тех дней, как постигал я первую любовь. И в эти дни, когда я мучительно сомневаюсь в себе и вижу много людей, но в сущности не умею увидеть почти никого, — мотив стихотворения и слова его со мной» (Блок 1963: 219). Думается, вместе с Блоком многие русские читатели могли бы сказать, что переводы Сологуба из Верлена они «носили в памяти». Лирика Верлена в версиях Сологуба, Брюсова и Анненского сыграла несомненную роль в «шуме» поэтического времени начала XX в. Когда в 1926 г. И. Северянин в сонете, посвященном Верлену, писал:
В утонченностях непереводимый,
Ни в чем глубинный, в чуждости родимый.
Ни в ком неповторимый Поль Верлен, (Северянин 1988: 241) —
об «утонченностях» «родимого» Верлена его поколенье знало главным образом все же из переводов, и не в последнюю очередь — сологубовских.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1]Общую постановку вопроса об интернациональном характере литературных направлений см. в работе В. М. Жирмунского «Литературные течения как явление международное» (Жирмунский 1979: 137–157).
[2]Немало глубоких и ценных, однако, в основном частных наблюдений о переводах Сологуба из Верлена содержится в предисловии М. И. Дикман к изданию оригинальных и переводных произведений Сологуба в Большой серии «Библиотеки поэта» (Сологуб 1975), в монографии Ж. Дончин (Donchin 1958), посвященной восприятию русскими символистами идей и творческих достижений Верлена и его французских последователей. Теме «Верлен и русский символизм» посвящены статьи К. Н. Григорьяна «Верлен и русский символизм» (Русская литература. 1971. № 1. С. 111–120) и Ю. Ороховацкого «Русские переводчики Поля Верлена» (Тезисы межвуз. науч.-теор. конф. «Проблемы русской критики и поэзии XX века». Ереван, 1973. С. 47–49). Вопрос о воздействии Верлена на Сологуба ставится в работе Ю. Смаги (Smaga 1980: 441–445).
[3]2 января 1893 г. Брюсов сделал следующую запись в дневнике: «Между прочим сделаю пробу. Пошлю переводы из Верлена в “Новости иностранной литературы”, “Тени” в “Артист” и “Николая” в “Ребус”» (Брюсов 1927: 10–11).
[4]См. интервью по поводу перевода пьес Клейста (Биржевые ведомости. 1913. 28 окт., веч. вып.).
[5]См.: Русская литература XX в. (1890—1910). М., 1914. Т. 1. С. 23.
[6]Н. Н. Русские символисты и кое-что о символизме вообще // Русское обозрение. 1895. Сент. С. 366.
[7]См.: Медведский К. П. Символизм на русской почве // Наблюдатель. 1894. № 1. С. 314.
[8]Вестник Европы. 1893. Апр. С. 861—862.
[9]Краснов П. Глава декадентов. Stephane Mallarmй. Vers et prose // Книжки Недели. 1898. Окт. С. 133—134.
[10]Согласно А. В. Федорову, подобный взгляд полностью соответствовал общим теоретическим воззрениям русских символистов (Федоров 1983: 67).
[11]В 1909 г. Брюсов вспоминал: «Знакомство, в начале 90-х годов, с поэзией Верлэна и Маллармэ, а вскоре и Бодлера, открыло мне новый мир. Под впечатлением их творчества созданы те мои стихи, которые первыми появились в печати (1894— 95 гг.)» (Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб.; М., 1909. С. 63).
[12]ИРЛИ. Архив Сологуба Ф. К. Ф. 289. Оп. 2. Ед. хр. 30. Л. 20. Ниже ссылки на архив Сологуба даются непосредственно в тексте, с указанием в скобках номеров описи, единицы хранения и листа. На письмо Сологуба к Латышеву указала мне М. М. Павлова, которой приношу искреннюю благодарность.
[13]В архиве Сологуба сохранились немногочисленные датированные черновые автографы переводов «Стихотворений в прозе» Малларме. Так, перевод «Бледный малыш» — 1898 г. 27 сентября, «Трубка» — 28 сентября.
[14]Верлен П. Синева небес над кровлей / Пер. Ф. Сологуба // Северный вестник. 1893. № 9. (Отд. I). С. 202; Верлен П. Был вечер так нежен и даль так ясна / Пер. Ф. Сологуба // Северный вестник. 1894. № 6. Отд. I. С. 218.
[15]Верлен П. Это — нега восхищенья // Наша жизнь. 1896. № 205. С. 1739.
[16]Верлен П. 1) Деревьев тень в реке упала в мрак туманный // Петербургская жизнь. 1896. № 291. С. 1739; 2) Серенада; Пока еще ты не ушла; Тоска // Петербургская жизнь. 1897. № 236. С. 1982; 3) Очаг, и тесное над лампою мерцанье; Так солнце, общник радости моей; В лесах // Петербургская жизнь. № 244. С. 2247; 4) Сплин; Я в черные дни; О, что в душе моей поет; Никогда вовеки; Я угадываю сквозь мерцанья // Там же. № 264. С. 2207; 5) Мурава // Петербургская жизнь. 1898. № 205. С. 2280; 6) Ночной луною; В полях кругом // Петербургская жизнь. № 291. С. 2426.
[17]Верлен П. 1) Женщине // Новый журнал иностранной литературы. 1904. № 10. С. 18; 2) В слезах моя душа // Новый журнал иностранной литературы. № 11. С. 109; 3) Песня, улетай скорей// Новый журнал иностранной литературы. 1905. № 4. С. 27.
[18]Верлен П. Лунный свет // Образование. 1907. № 5. С. 128.
[19]Переводы Брюсова из Верлена отдельными сборниками выходили дважды: Верлен П. Романсы без слов / Пер. В. Брюсова. М., 1894; Верлен П. Собр. стихов в переводе В. Брюсова. М., 1911. Значительно менее удачными, чем брюсовские и сологубовские, были другие «монологические» попытки воссоздать лирику Верлена на русской почве (См.: Верлен П. Стихотворения / Пер. Д. Ратгауз. Киев, 1896. Вып. 1; Из Мюссе и Верлена. Стихотворения / Пер. Зинаиды Ц. СПб., 1907; Верлен П. Избранные стихотворения в переводе Сергея Френкеля. М., 1914). Были также попытки представить поэзию Верлена антологией творческих удач русских поэтов-переводчиков на «соревновательной» основе: Верлен П. Избранные стихотворения в переводе русских поэтов. СПб., 1911; Верлен П. Избранные стихотворения в переводах И. Анненского, Валерия Брюсова, В. А. Мазуркевича, Н. Минского, Н. Новича, П. Н. Петровского, Д. Ратгауза, С. Рафаловича, Федора Сологуба, И. И. Тхоржевского, Зинаиды Ц., О. Н. Чюминой (Михайловой) и Эллиса / Сост. П. Н. Петровский. М., [1912].
[20]РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 28.
[21]В описательной и компилятивной статье В. А. Пестерева «Артюр Рембо в русской критике» (XXVIII Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1976. С. 73—77) приводятся некоторые из немногочисленных фактов бытования творчества Рембо в России. Самыми общими сведениями о раннем восприятии произведений французского поэта в России ограничивается Р. Этьямбль в своей работе, посвященной главным образом судьбе творческого наследия Рембо в Польше (Etiemble R. Nouveaux aspects du mythe de Rimbaud: Rimbaud dans le monde slave et communiste. Fac. 1. Le mythe de Rimbaud en Pologne. Paris, 1964).
[22]Верлен П. Стихи, выбранные и переведенные Федором Сологубом. 2-е изд. Пг.; М., 1923. С. 49. Ниже ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы в скобках.
[23]См.: Библиотека А. А. Блока: Описание. Л., 1984. Кн. 1. С. 122.
[24]Русское богатство. 1907. № 12. С. 175.
[25]См., напр.: Martino P. Parnasse et symbolisme. Paris, 1928. P. 118.
[26]Речь. 1908. № 51. 29 февр.
[27]Рукописная вставка приложена к рецензии Ю. Верховского, помещенной в «Альбоме с рецензиями на книги стихов Ф. Сологуба» (6, 17, 9). Цит. по: (Волошин 1988: 732).
[28]Товарищ. 1907. № 449. 19 дек.
[29]См.: Русское богатство. 1907. № 12. С. 170.
[30]См.: Верлен П. Стихотворения / Пер. Д. Ратгауза. Киев, 1896. Вып. 1 / Северный вестник. 1896. № 5. С. 326.
[31]См.: Русское богатство. 1907. № 12. С. 177.
[32]См.: Биржевые ведомости. 1907. № 10260. 18 дек.
[33]Аякс [А. А. Измайлов]. У Ф. К. Сологуба // Биржевые ведомости. 1912. 20 сент. Веч. вып.
[34]Русское богатство. 1907. № 12. С. 177.
[35]Речь. 1909. 24 мая. С. 56.
[36]Львов В. Рец. на кн.: Французские лирики XIX века. Переводы в стихах и биобиблиографические примечания Валерия Брюсова. СПб., 1909 // Современный мир. 1909, сент. Критика и библиография. С. 103.
[37]Указания на переводы Новича (Как дождь стучит в окно // Русские символисты. М., 1895. Вып. 3. С. 42), Кублицкой-Пиоттух (Слезы безмолвные в сердце моем // Вестник иностранной литературы. 1897. № 4. С. 164) и Рафаловича (Верлен П. Избранные стихотворения в переводах русских поэтов. М., [1912]. С. 48) отсутствуют в примечаниях к верленовскому стихотворению в переводах Анненского и Пастернака в авторитетном издании «Мастера русского стихотворного перевода» (Л., 1968. Т. 2. С. 413, 433).
[38]Впоследствии свои ранние переводы из Верлена Брюсов определит как в известной степени вольные, поскольку, раз у Верлена смысл — в настроении, он «предпочитал пожертвовать словом ради настроения» (цит. по: Мирза-Авакян М. Л. Работа Брюсова над переводом Romances sans paroles Верлена // Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, 1968. С. 495).
[39]См., например, первые строфы стихотворения «Брюссель».
[40]«Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов», — писал о своих «Последних стихотворениях» Рембо в книге «Одно лето в аду» (Рембо 1982: 170).
[41]Сологуб Ф. Искусство наших дней // Русская мысль. Пг., 1915. Кн. 3. С. 41.
[42]Малларме С. 1) Белая кувшинка / Пер. П. Краснова // Всемирная иллюстрация. 1893. Т. 50. № 3. С. 46; 2) Осенняя жалоба / Пер. П. Краснова // Там же. 1894. Т. 52. № 17. С. 309; 3) Из «Листков». Трубка / Пер. М. // Русские символисты. М., 1894. Вып. 2. С. 49—50; 4) Осенняя жалоба / Пер. М. // Там же. 1895. Вып. 3. С. 50—52; 5) Осенняя жалоба. Зимний трепет. Феномен будущего // Северный вестник. 1896. № 5. С. 45—51 (Л. К. Поэзия упадка (Stephane Mallarme)) 6) Зимняя дрожь / Пер. П. Краснова // Книжки недели. 1898. № 10. С. 135.
[43]О различных возможностях ритмизации в традиционных литературных формах (подхваты и иного рода словесные повторения, однородные члены интонационно-синтаксического целого, парные группы слов, аллитерации начальных согласных, анафорические повторения, слегка намеченный синтаксический параллелизм) см.: Жирмунский В. М. О ритмической прозе // Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 575—576.
[44]«Маллармэ выдумывает свои слова, не имеющие никакого смысла, пропускает такие необходимые во французском языке слова, как члены, перебивает строение фразы восклицаниями и даже целыми вводными фразами, произвольно ставит знаки препинания, а порой и вовсе отрицает их», — писал, например, П. Краснов (Краснов П. Глава декадентов: Stephane Mallarme. Vers et prose // Книжки Недели. 1898, окт. С. 132—133).
[45]Чужак Н. Творчество слова // О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки / Сост. А. Чеботаревской. [СПб., 1911.] С. 247—248.
[46]Синтаксис Малларме в этом фрагменте совершенно нейтрален: «...je sentis que j’avais, ma main rйflйchie par un vitrage de boutique у faisant le geste d’une caresse...»
[47]Впрочем, и в переводах Сологуба также достаточно велик груз «писательской техники», об отсутствии которой как об одном из главных достоинств творчества Малларме писал Р. Барт: «Вырвавшись из оболочки привычных штампов, освободившись из-под ига рефлексов писательской техники, каждое слово обретает независимость от любых возможных контекстов; само появление такого слова подобно мгновенному неповторимому событию, не отдающемуся ни малейшим эхом и тем самым утверждающему свое одиночество, а значит, и безгрешность» (Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983. С. 342).
[48]Rimbaud A. Illuminations. Paris, 1896.
[49]15 мая 1871 г. РембописалПолюДемени: «Ибо он достигает неведомого! Так как он взрастил больше, чем кто-либо другой свою душу, и без того богатую! Он достигает неведомого, и пусть, обезумев, он забудет смысл своих видений, — он их видел» (Rimbaud A. Oeuvres. Sommaire biographique, introduction, notices, relevй de variantes et notes par S. Bernard. Paris, 1960. P. 346).
[50]О границах символизма, преодолеваемых во многом Сологубом, хотя и вне связей с переводами из французских символистов, пишет Нина Денисова (Denissoff N. Fedor Sologoub. 1863—1927. Paris. 1981. P. 415).
[51]См.: Мирза-Авакян М. Л. Работа В. Я. Брюсова над переводом Romances sans paroles Верлена // Брюсовские чтения 1966 года. С. 489—490.
[52]См.: Ороховацкий Ю. Русские поэты-переводчики Поля Верлена // Тезисы межвузовской науч.-теор. конф. «Проблемы русской критики и поэзии XX века». С. 47.
[53]См.: Найда Ю. А. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 118—120.